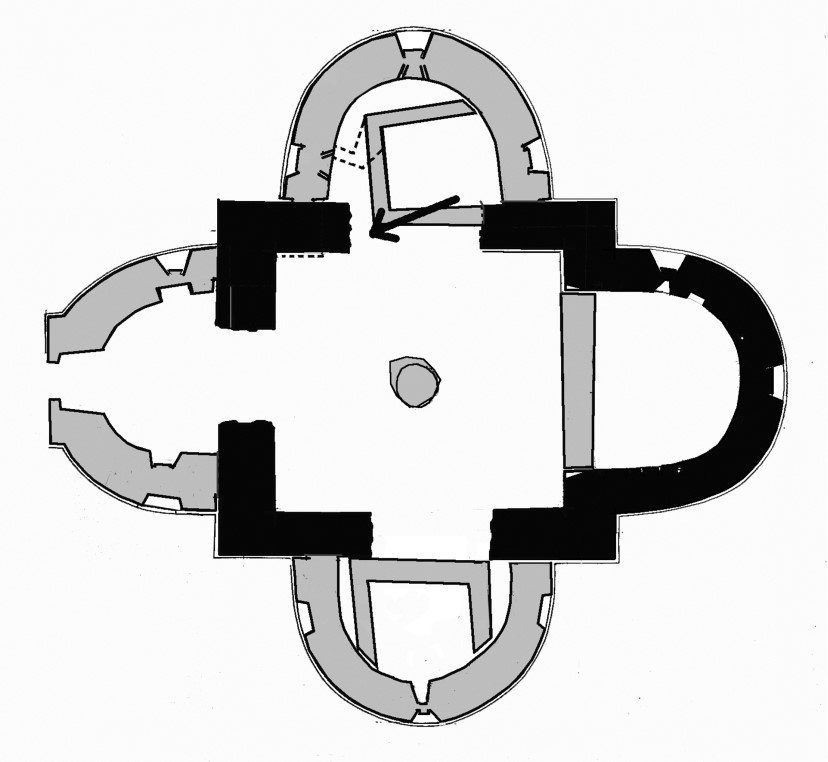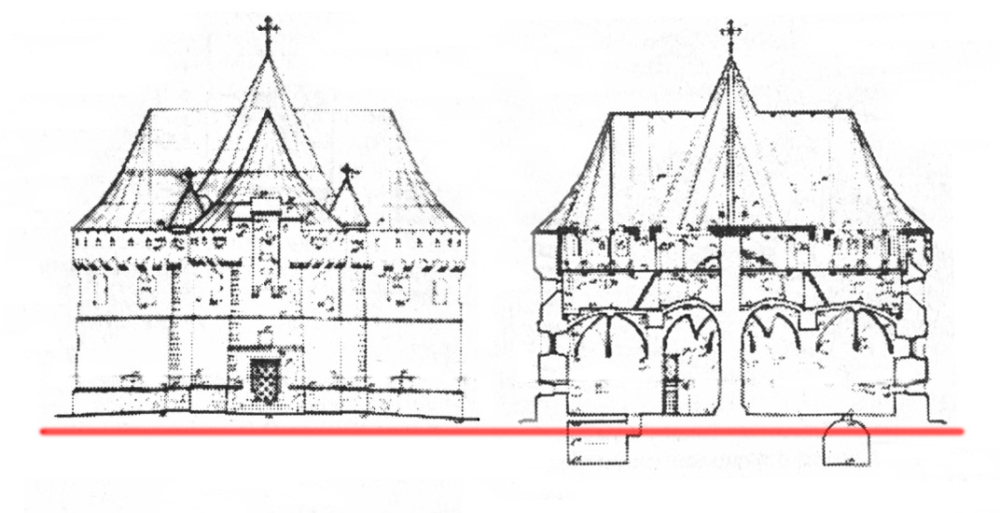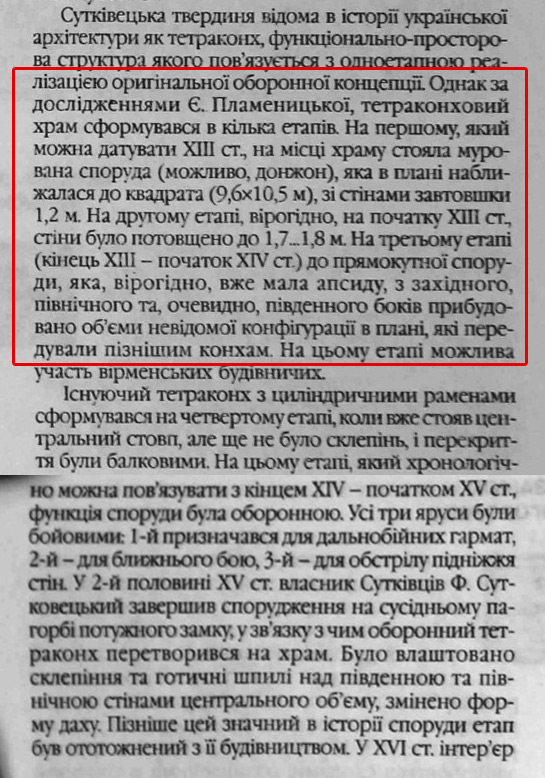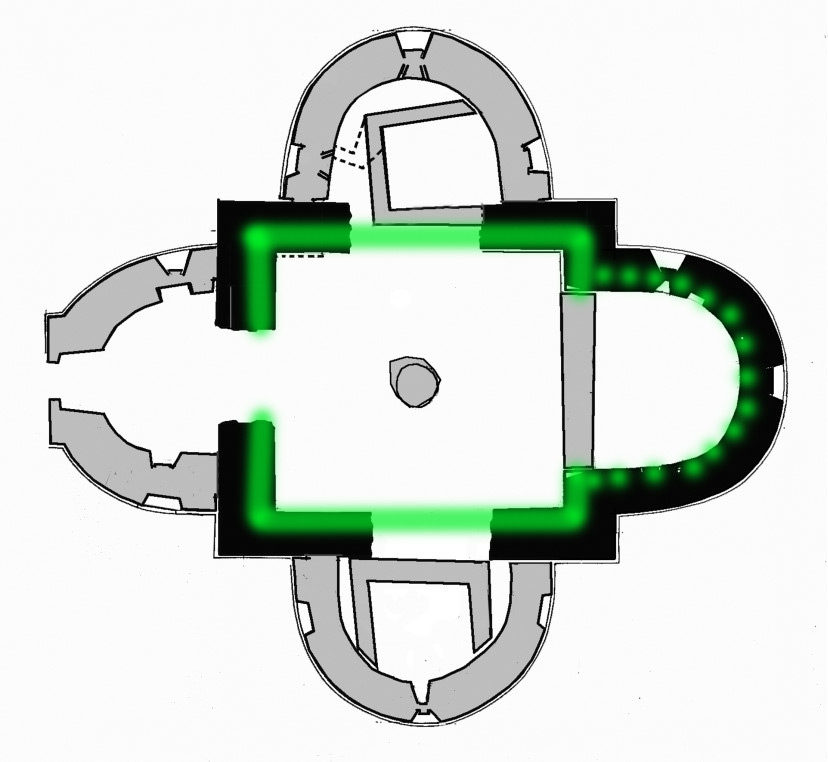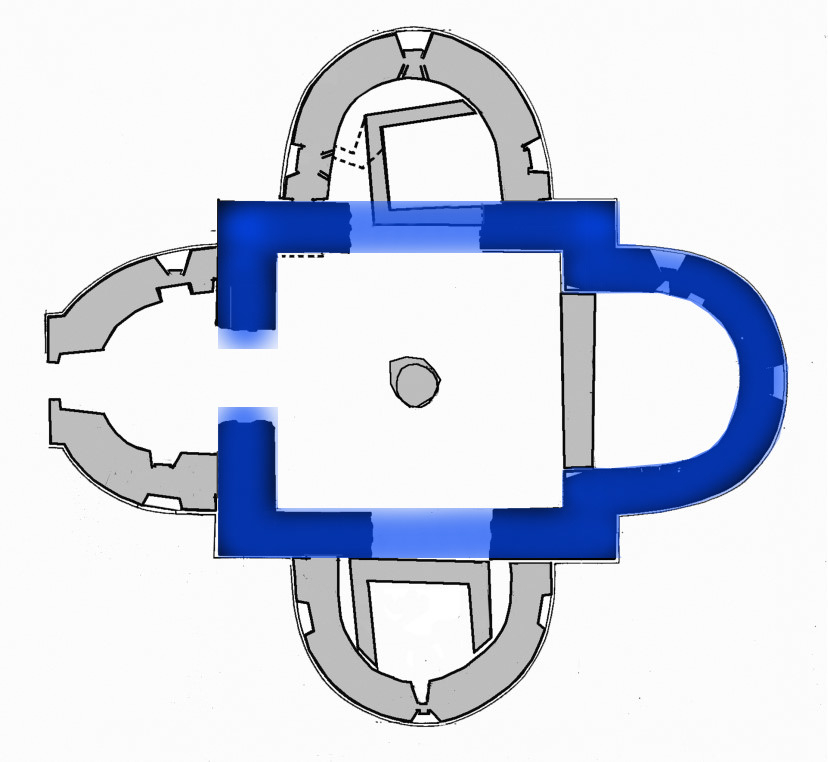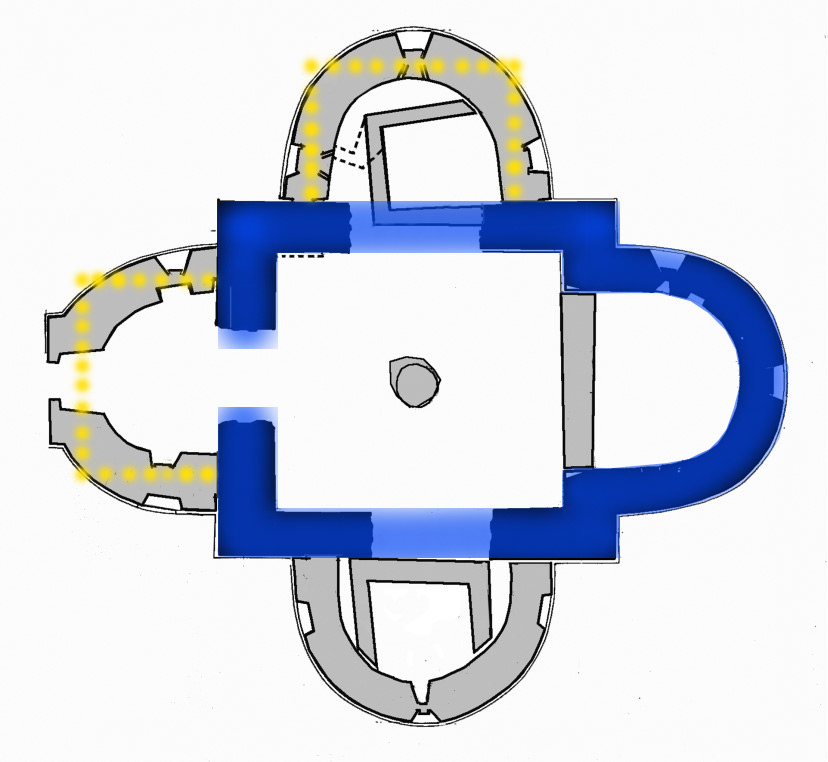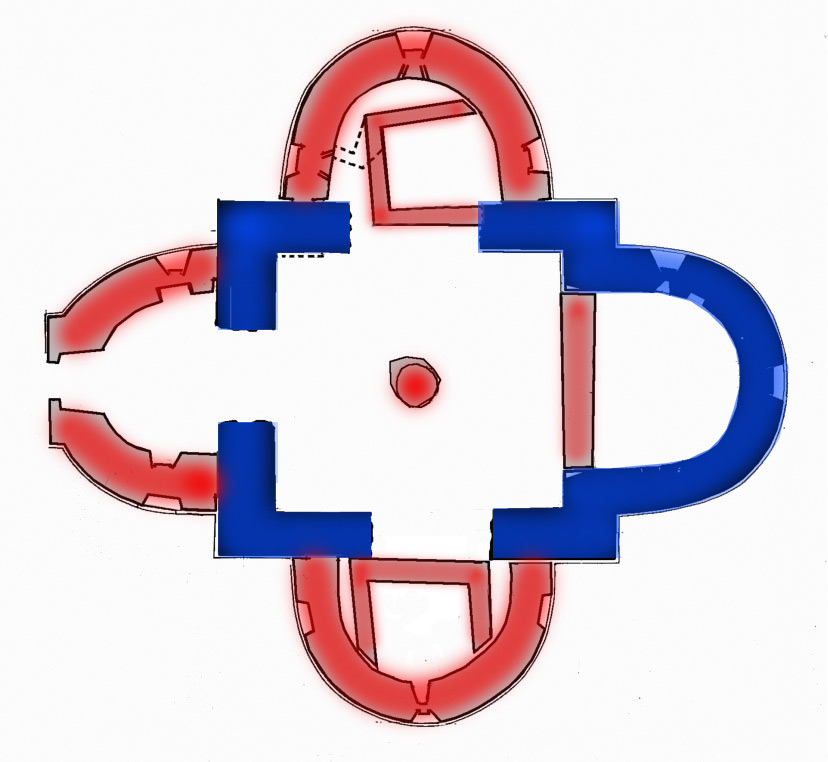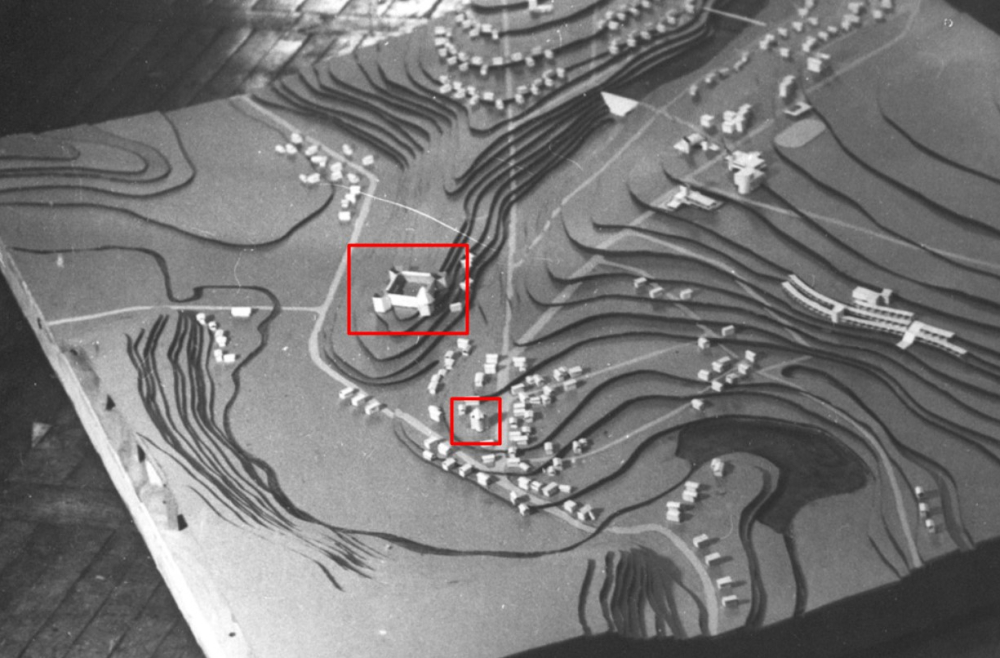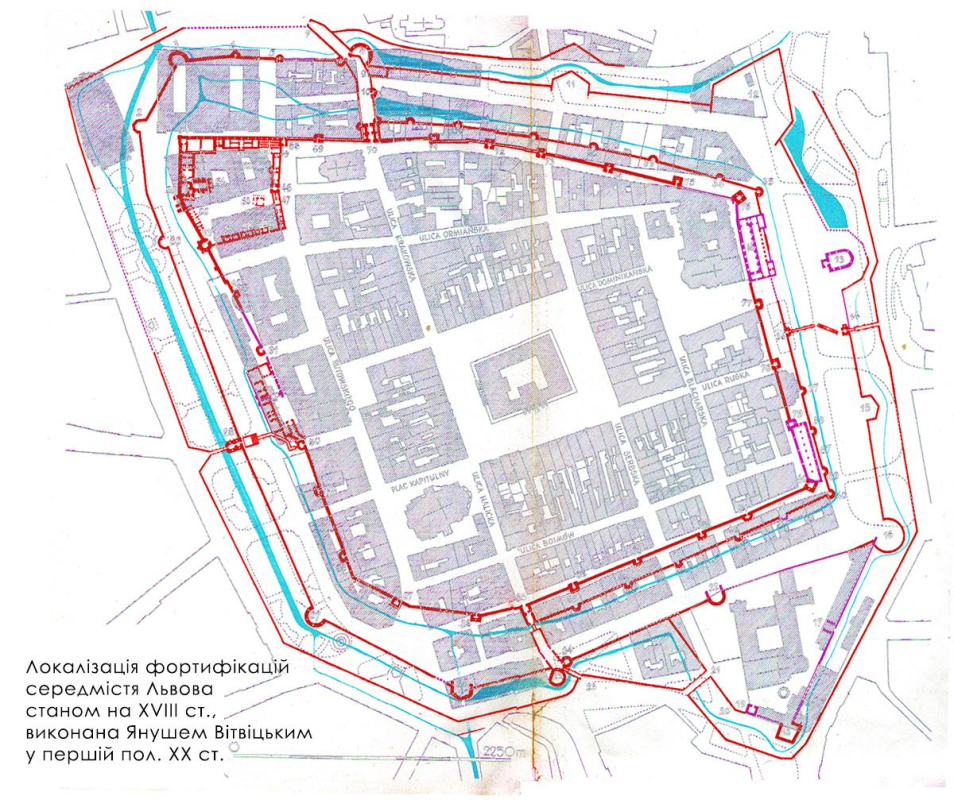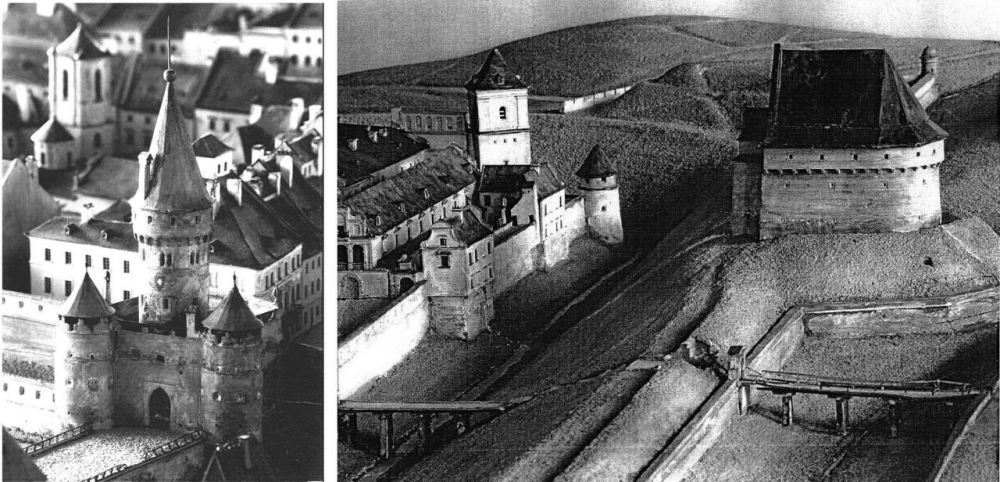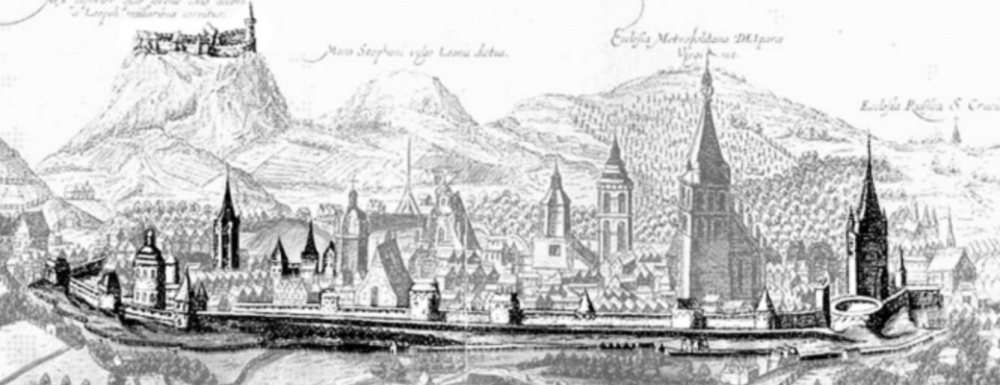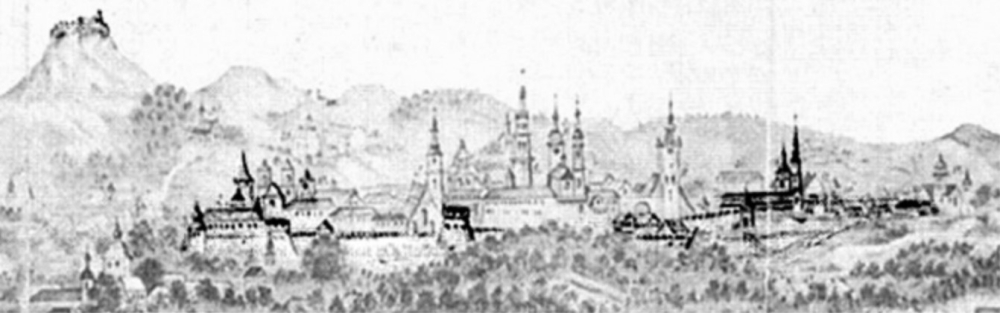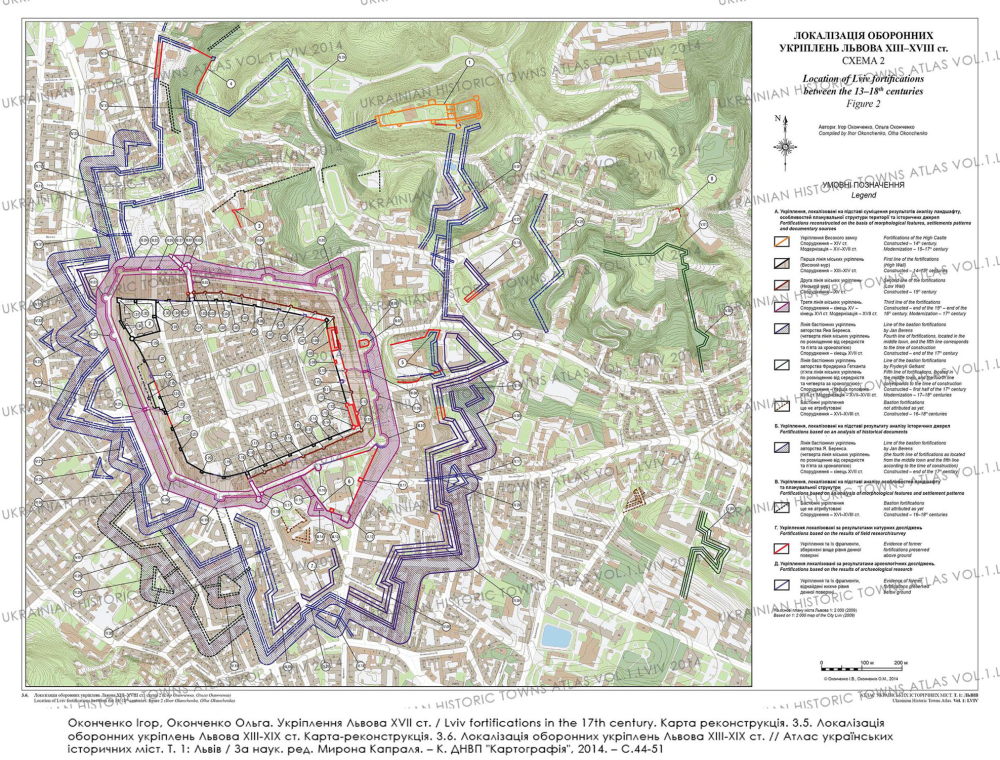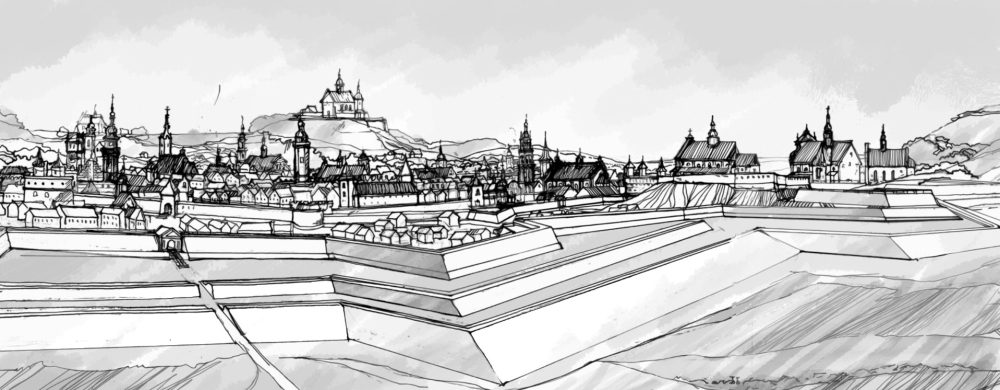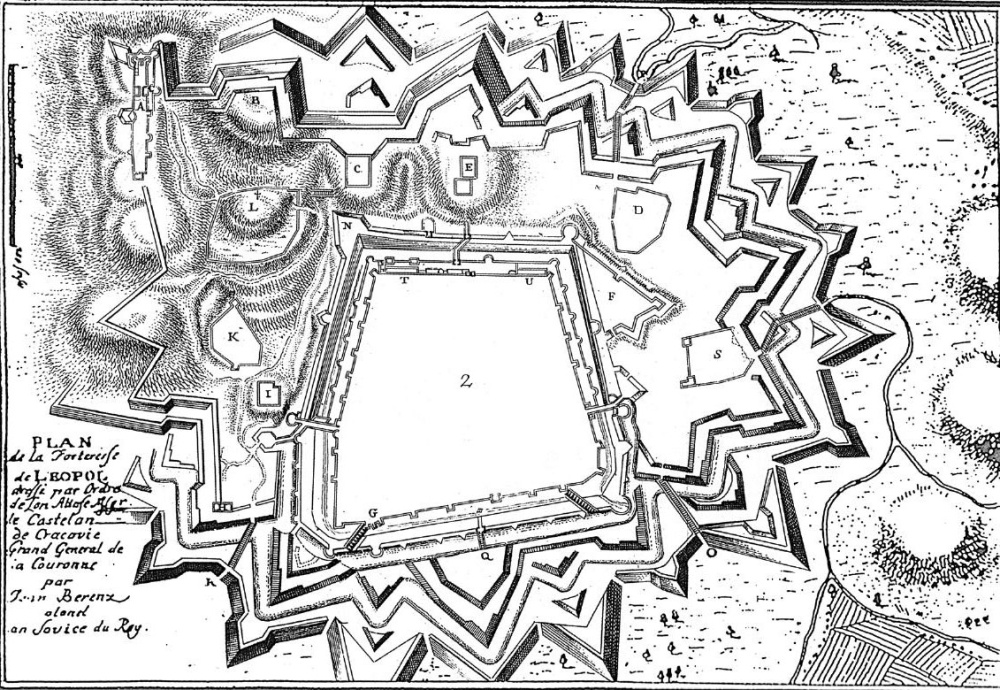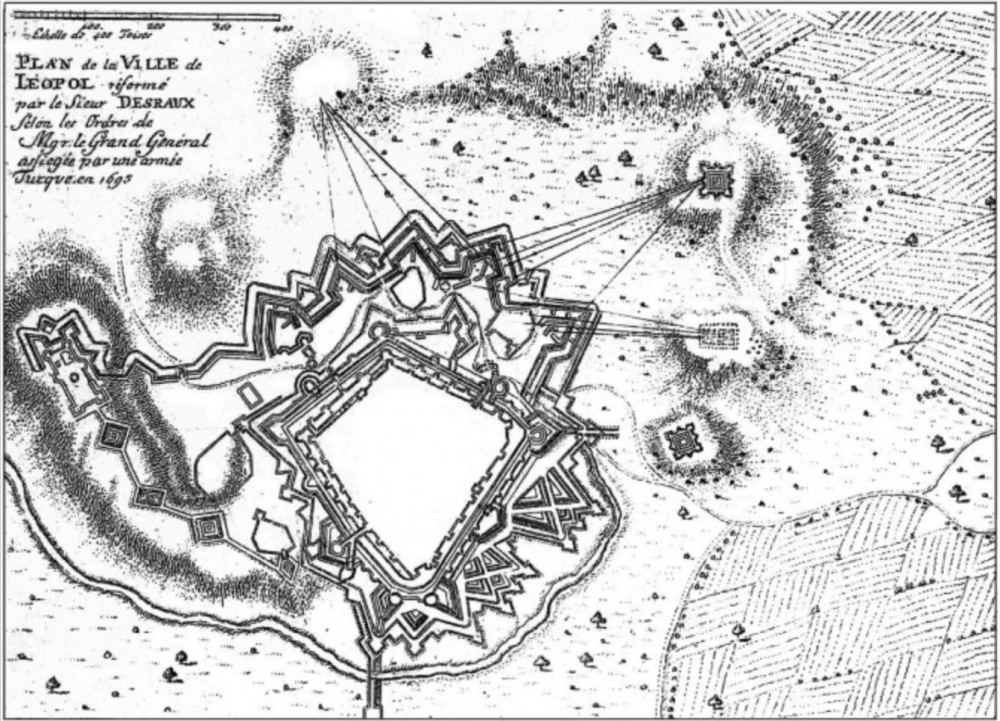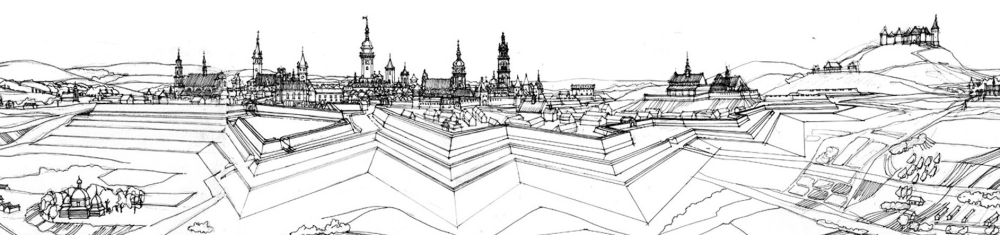-
Публикаций
4,824 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
606
Последний раз Filin выиграл 18 апреля 2025
Публикации Filin были самыми популярными!
Информация
-
Пол
Мужчина
-
Город
Киев
Контакты
-
Сайт
https://www.facebook.com/zamki.kreposti
Filin's Achievements

Тест (4/4)
1.2k
Репутация
-
Нижче стаття Ігоря та Ольги Оконченко, яку було вперше опубліковано ось тут 18 червня 2024. Від Високого замку до Цитаделі. Хронологія укріплень Львова у фактах і згадках Джерело Львівські укріплення створювалися поетапно під впливом соціальних, політичних, військових, економічних та інших чинників. Починаючи з ХІІІ ст. і до кінця ХVIII ст. оборонні укріплення Львова були важливим організовуючим фактором формування міського середовища. У XVIII ст. історія будівництва фортифікацій Львова не завершилася, оскільки у XIX ст. – початку XX ст. було створено глибокоешелонований оборонний комплекс укріплень з ядром на території Цитаделі. Навіть після втрати оборонного значення і розбирання укріплень, у планувальній структурі Львова досі можна відчитати місця проходження колишніх фос і валів. Збережені ж оборонні будівлі слугують цінними і унікальними об'єктами для розуміння культурної спадщини. І. Комплекс укріплень Львова княжого періоду (долокаційного) ХІІІ – середини ХIV ст. Одна з найдавніших писемних згадок про укріплення Львова відноситься до 1259 р. Вона розміщена у Галицько-волинському літописі. Тут ідеться про розбирання вже на той час якихось існуючих укріплень: за велінням Хана Бурондая Князь Лев розібрав Львівські укріплення. “…сказав Бурондай Василькові: “Якщо ви єсте мої спільники – розмечіте ж городи свої всі… Лев розкидав городи Данилів і Стіжок, а, звідти пославши воїв, Львів розметав”. Інші давні джерела повідомляють: 1270 (1269) − князь Лев спорудив Високий Замок. “Він негайно наказав побудувати на вершині нашвидкоруч фортецю зі зрубаних на тому ж місці дерев і оточити її загородами і міцним частоколом. Він наказав також розмістити у внутрішніх спорудах регалії княжої влади, замкову скарбницю, військову здобич і арсенал і вирішив перенести свою княжу резиденцію на цю (Замкову) гору, з вершини якої відкривався широкий краєвид”. 1271-1272 − зведено Низький Замок “…нижній, пристосований більше для життя, ніж для боротьби…” 1287 (1286) − Хан Телебуга не зміг захопити Львів. “…Пішов назад на Львову землю, на город Львів. І стояли вони на Львівській землі дві неділі, кормлячись і не розоряючи…” Згадка про закінчення мілітарного функціонування міських укріплень княжого періоду та знищення двох дерев'яних замків стосується 1340 р. В хроніці 1455-1480 років Яна Длугоша зазначено, що війська Казимира III спалили давньоруські укріплення і захопили Львів. Джерела вказують на існування та руйнування цих укріплень, але їх локалізація в терені, планувальні та об'ємно-просторові характеристики достеменно не відомі. Більшість сучасних дослідників вважають, що укріплення княжокого періоду частково ввійшли в склад укріплень Львова наступного періоду. Високий Замок на історичних зображеннях і планах. Львів із заходу. Мідьорит А. Гогенберга за рис. А. Пассаротті 1607 – 1608 рр. Львів із заходу. Фрагмент мідьориту А. Гогенберга за рис. А. Пассаротті 1607 – 1608 рр. ІІ. Комплекс укріплень Львова середини ХІV – ХVІІ ст. Згідно зі згадками і описами відразу після зруйнування Львівські укріплення знову почали відбудовувати. Впродовж наступних століть вони ще не одноразово потерпали від пожеж і бойових дій, але відбудови і модернізації щоразу призводили до збільшення їхньої кількості і території, яку вони займали. У найдавнішому історичний описі Львова Мартіна Ґруневеґа кінця ХVІ ст. зазначено, що у 1342 Львівською боярською радою проведено масштабні роботи по відбудові і реконструкції укріплень (мурів і Низького Замку) також за рішенням боярської ради Високий Замок − відбудовано. У XVII ст. бургомістр Львова Бартолом6ей Зиморович підсумовує: “…Казимир Великий, спаливши перше (місто) здобуте від русинів… кам’яними мурами, саксонським правом, німецькою залогою забезпечивши, перетворив [Львів] у кращий та більш вишуканий…” В хроніці Яна Длугоша (1455-1480) зазначено про існування в 50-і роки XIV ст. двох оборонних замків, мурів, ровів. Тоді ж реконструюється Високий Замок і будується Низький. Події з середини XIV ст. підтверджують, що укріплення активно функціонують. 1351 − львівські укріплення витримали напад Любарта великого князя волинського. 1353 − війська Любарта дощенту спалили Львів. 1375 − інформація від угорського регента Володислава Опольського (в листі до папи Григорія IX) про існування мурів і “добрих фортифікацій”. 1381 − пожежа Низького Замку (дерев’яний Низький Замок - згорів повністю). Згорів Казимирівський Львів (у тому числі і всі оборонні споруди). У документах 1382 р. згадується Галицька брама зі звідним мостом, у 1386 - звідний міст при Татарській (Краківській) брамі. Комплекс укріплень Низького замку. Фото з макета (пластичної панорами міста Львова станом на 1740-ві роки авторства Я. Вітвіцького. Фото 30-х рр. ХХ ст. Малюнок Львова з південного Заходу поч. ХVІІІ ст. Фрагмент. З праці О.Черненра 1997 р. Станом на початок ХV ст. перша лінія львіських укріплень вже сформувалася, почались роботи по поглибленню існуючих ровів, підняттю валів, спорудженню оборонних башт та другого муру. Численні згадки про будівництво чи реконструкцію оборонних споруд трапляються майже що кілька років упродовж ХV − ХVІІ століть. Згадуються будівництво і ремонт веж, брам, мостів, валів, арсеналів, укріплень монастирів і храмів, податки і видатки на будівництво укріплень і, звичайно, також руйнування в результаті воєнних дій, пожеж і плину часу. Нижче наводимо лише окремі згадки, які стосуються функціонування оборонних споруд та комплексних робіт з облаштування укріплень. 1400 − на кошти львівського бургомістра Петра Штехера збудовано вал навколо міста. 1408-1410 роки − згадуються фінансові витрати на розширення мурів, поглиблення ровів і будівництво веж (мурованих). Фосу і вал посилено палями і дошками. У 1422 − 1423 відбувається значне пожвавлення робіт з модернізації укріплень. 1425 − король Ягелла звільнив Львів від сплати податків з умовою, що гроші підуть на посилення львівських укріплень. 1445 − за “Хронікою Львова” Дениса Зубицького на той час у Високому мурі було 17 веж. Усі вежі (башти) були закріпилені за ремісничими цехами. 1495 − проведено черговий люстраційний опис Високого та Низького замків м. Львова. 1494 − під час великої пожежі вулиць Єврейської та Руської згоріло 5 веж. 1506 − магістрат наказав зміцнити мури. 1511 − Полтва вийшла з берегів і пошкодила частину муру, а в 1514 у результаті розливу змила вал. 1522 − ведуться інтенсивні роботи по вдосконаленню зовнішніх оборонних споруд. 1524 − львівські укріплення витримали напад турецько-татарського війська. 1527 − під час пожежі згоріли майже всі дерев’яні вежі, пошкоджено Низький замок. Окрім того пожежа знащила Галицьку браму разом з усім озброєнням. 1540 − завершення робіт по відбудові укріплень після пожежі. 1555 − львівський староста виступав проти осушення боліт у долині ріки Полтви з причини їхньої користі для оборони. 1554 − 1556 − споруджено новий будинок Міського арсеналу на місці ранішого. Західною стіною для нього послужив оборонний мур XIV ст., завдяки чому він зберігся до нашого часу майже у первісному стані разом зі слідами машикулів. 1565 − Низький замок згорів і був відбудований. Перспектисний вид східного прясла львівських укріплень. Гіпотетична реконструкція станом на ХVІІ ст. авторства Ігора Оконченка (1999р.) Перспективний вид східного прясла львівських укріплень. Справа – бастея (Порохова вежа), по центру Руська брама і вежа Корнякта, зліва Босацька фіртка і Міський арсенал. Гіпотетична реконструкція станом на ХVІІ ст. авторства Ольги Оконченко (2019 р.) Бастея «Порохова Вежа» у 2024 р. У кінці ХVІ ст. − в ХVІІ ст. серед документів трапляється значна кількість звітів ревізій міських оборонних споруд. Результати цих перевірок зазвичай містять інформацію про аварійність і недостатню оборонність. Для покращення стану оборонності до Львова запрошують професійних архітекторів-фортифікаторів. Міська територія, оточена укріпленнями, постійно розширюється через будівництво ліній оборонних споруд монастирів та передмість. Наведемо нижче лише деякі факти, які ілюструють період зведення нових укріплень навколо Львова, стану та реконструкції існуючих оборонних споруд. 1589 – архітектор-фортифікатор Бернардо Морандо працює у Львові над зміцненням укріплень. За його проектом Біля Високого Замку викопано шанці. 1595(1597) – закладено монастир Бенедиктинок з власними високими оборонними стінами (архітектор - Павло Римлянин). На початку XVII ст. військовий інженер Фредерік Ґеткант приїхав до Львова в справі, пов’язаній з оборонними мурами Бернардинського монастиря. 1606 – звіт комісії щодо аварійного стану мурованих міських укріплень. 1607 – інженер-фортифікатор Ауреліо Пассароті провів ревізію укріплень і піддав гострій критиці існуючі оборонні споруди. 1607 – шанці, споруджені під керівництвом Б. Морандо, знищились через нетривкість піщаного грунту. 1607-1609 – мешканці Галицького передмістя почали копати шанці, з метою привести оборонні споруди до належного стану. 1608 − до Львова прибув фортифікатор Теофіл Шемберг. Він визнав потребу укріпити не Галицьке, а Краківське передмістя. Також він провів роботи з укріплення церкви Св. Юра. 1615 − радники примушують мешканців Галицького передмістя терміново копати шанці. 1622 − зведено оборонні мури комплексу Бернардинів. 1622-1628 р. − бургомістр Львова Мартин Кампіан стверджує, що побудував другий мур від Галицької брами до Сокільницького мосту. 1624 − рішення Королівської комісії та міської ради: “…знищити будинки передміщан перед мурами і переселити… чотириста ліктів від валів…“ 1634 − Ян Юзефович, тогочасний львівський хроніст зазначає, що наказано збирати щотижня по 8 грош з кожного будинку і кожного господаря протягом 2-х місяців на ремонт і відновлення міського валу. 1634 − відбувся протест жителів Галицького передмістя з приводу примушення їх до роботи з укріплення міста. 1634 − засновано монастир Кармелітів босих , оточений оборонними мурами. 1635 − військовим інженером Фредеріком Ґеткантом створено проект оборонного бастіонного поясу, який включав, окрім середмістя, ще і всі околиці Львова. Відомо, що частина цих укріплень була реалізована і навіть відчитується в рельєфі у наш час. 1638 − указ короля Владислава IV про обнесення ровами костелів Св. Лазаря і Марії Магдалини на Галицькім передмісті. 1639 − розпочато будівництво двох ів: Королівського і арсеналу Сенявських. 1645 − король Владислав видав указ про будівництво оборонних валів на Галицькому передмісті. Міський арсенал Королівський арсенал і бастея низького муру Облога Львова військами Б. Хмельницького в 1648 р. Мідьорит К.А. Недбаловича 1702 р. 1648 − здобуття Високого Замку козацько-татарськими загонами під керівництвом полковника М. Кривоноса. ... “Львів, боронячися, передмістя сами спалили всі округом. Воду отняли були козаки, рури поперетинавши. Замку Високого добули і люд вистинали“... 1655 − проводяться роботи по підвищенню міських валів. 1655 − облога і штурм Львова військами Б. Хмельницького. 1664 − звіт комісії: “… Замок Львівський пустий, руйнується”. 1666 − проведено ревізію міських укріплень, у якій згадано 17 веж: 1 - Золотарів (за Низьким замком); 2 - “пуста віддавна” (мабуть, колишня Крамарів); 3 - Кушнірська (над Краківською брамою); 4 - Калитників (раніше - Миловарів); 5 - Мечників; 6 - Ткачів; 7 - Сідлярів і Шапкарів; 8 - Медо- і Пивоварів; 9 - Римарська; 10 - Мулярська; 11 - “Хвіртка нова”; 12 - Токарів і Поворозників; 13 - Шевська; 14 - Гончарська; 15 -Галицька брама; 16 - Гарбарська; 17 -Бондарська. 1672 − війська султана Магомета ІV під керівництвом Капудана-Баші оточили Львів. Турки копали на узбіччі Калічої гори окопи (так звані Турецькі шанці) із них обстрілювали середмістя за мурами. Міські мури витримали облогу, але було спалено Галицьке передмістя. Обороною керував Ян III (Собеський). 1678-1682 − військовий комендант Львова Ян Беренс розпочав будівництво земляних фортифікацій нової системи “… почали сипати вал від костелу Кармелітів босих - поза костел Кармелітів взутих”. Залишки цих укріплень відчитуються в топографії місцевості до сьогодні. 1704 − Напад шведського війська на Львів. Було спалено міський арсенал, а оборонні стіни після нападу вже суттєво не відбудовувались. 1712 − військовий комендант Ян Міхал Копенгаузен провів ревізію міських укріплень, де відзначив занедбаність і “запаскудженість” мало не всіх оборонних споруд. Окрім того, склав плани укріплень і подав їх магістратові з проектами нових фортифікацій. 1753 − в праці дослідника львівських укріплень В. Томкевича зазначено, що пацифістичні настрої привели до того, що місто продало всю артилерію Михайлові Радзивілові. Кінець XVIII ст. − австрійська влада знесла міські укріплення. 1777 − початок розбирання мурів довкола середмістя. Графічна реконструкція укріплень Львова ХІІІ-ХІХ ст. на сучасній топогеодезичній підоснові, виконана О. Оконченко та І. Оконченком. (2014р.) Локалізація укріплень Львова ХІV-ХVІІ ст. на сучасній топогеодезичній підоснові, виконана О. Оконченко та І. Оконченком. Червоним кольором позначено збережені муровані споруди. ІІІ. Оборонний комплекс укріплень з ядром на території Цитаделі середини XIX ст. – початку XX ст. 1848 р. − створена спеціальна комісія для вибору місця під будівництво Цитаделі. 1848 − обстріл австрійськими військами центру Львова під час повстання «Весни народів» з території, на якій пізніше споруджено Цитадель [свідчення того, що до спорудження укріплень комплексу Цитаделі якісь значні оборонні споруди у цьому терені вже функціонували]. 1852 – 1854, 1856 − на місці старих турецьких укріплень Калічої гори австрійці споруджують оборонний комплекс Цитаделі. 1859 – на відстані близко одного кіломента на південь від ядра Цитаделі насипано три форти – шанці системи полковника Франца Шолля. 1888 − збудовано 9 фортів [шанців] в радіусі 4 км. від Цитаделі. 1912 − 1914 − у радіусі 8 км від Цитаделі розміщено 11 фортів: Грибовичі 1 і 2; Дубляни; Лисиничі; Винники; Сихів; Зубра; Сокільники; Скнилів; Рясна; З’явленська гора. По закінченню Першої Світової війни, з введенням нових родів військ, таких як авіація та бронетехніка, докорінно змінились стратегічні та тактичні засади ведення бойових дій. Лінії укріплень середини XIX – початку XX ст. вже не відповідали вимогам ведення сучасної війни. Як наслідок – елементи оборонних ліній здебільшого занедбуються і підлягають руйнації, споруди Цитаделі пристосовують під цивільні функції. Збережені будівлі Цитаделі на сучасній топогеодезичній підоснові Публікація присвячується світлій пам’яті Рудницького Андрія Марковича та Мацюка Ореста Ярославовича
-
Нижче стаття Ігоря та Ольги Окончено, яку вперше було опубліковано ось тут 3 липня 2025 р. Максиміліанські вежі Львівської цитаделі − унікальний приклад фортифікаційного мистецтва XIX століття Максиміліанські вежі Львівської цитаделі є унікальною спадщиною австрійського фортифікаційного мистецтва XIX століття. Науковці Ігор та Ольга Оконченко розповідають про їхні особливості. Фото: bigmarkin Комплекс оборонних укріплень Львівської цитаделі − видатний зразок європейської фортифікаційної архітектури середини XIX ст., який дійшов до нашого часу майже без змін. Збережені укріплення репрезентують останній період довгочасної фортифікації, коли функціональні та конструктивні характеристики оборонних споруд перебували в тісному взаємозв'язку з досконалістю та естетичністю рішення. Це приклад, коли архітектор-фортифікатор послуговувався не лише практичним задумом, а й замислювався над красою, яка відображалася в геометричній досконалості, високому професійному рівні мурування та каменярської роботи, в увазі до вибору стилістики деталей, у якості застосованих матеріалів. У цій публікації висвітлена специфіка мілітарної архітектури Львівської цитаделі та приклади аналогічних укріплень на теренах Європи. Рис. 1. Північно-східна велика Максиміліанська вежа Львівської цитаделі. Фото авторів Система фортифікацій Львівської цитаделі Фортифікації Львівської цитаделі є показовим прикладом одного з ключових етапів розвитку фортифікацій нового часу у ХVІІІ−ХІХ ст. Характерними рисами нового підходу у воєнному мистецтві цього періоду стало посилення вогневих та відпірних можливостей укріплень, розташованих поза основним периметром фортеці, та збільшення саме активної оборони. Ключове значення надавалося не надійності стін та вдалому розташуванню мілітарного об'єкта, а силі фортечної артилерії, завданням якої було перемістити зону бойових дій подалі від фортець. Відомий французький інженер Марк Рене де Монталамбер у ХVІІІ ст. запропонував, замість неперервних ліній укріплень, влаштовувати пояси з окремих оборонних споруд чи фортів, що дозволяло покривати артилерійським вогнем великі території навколо фортеці. Монталамбер передбачив майбутній розмах битв та грандіозні об'єми армій, тому його ідеї залишались актуальним впродовж ХІХ ст. Інженер зазначав, що вал можна зробити навіть з паперу за умови, що з нього стрілятиме достатня кількість гармат таким чином, щоби ворог під час облоги не міг розмістити жодної своєї гармати в зоні передполя фортеці. Задум Львівської цитаделі базується насамперед на концепції Монталамбера, яка була пристосована до нових умов. Монталамбер розробив систему фортів із полігональним плануванням, які пропонував підсилювати артилерійськими вежами. У полігональній системі використовували різні елементи, відомі ще з попередніх систем. Вал, редут і капонір були основними складовими, з яких формувалися як периметр фортець, так і форти, що оточували фортецю. Вал, із якого формувався периметр, міг бути прямолінійним або з заломами. Периметр ядра полігональної фортеці чи форту легко адаптувався до різноманітних умов місцевості. Рис. 2. Схематичне зображення вежі Монталамберга з праці Ц. Кюі 1897 р. Вежі Монталамбера − це круглі в плані кам'яні споруди з основою у формі зіркоподібного штерн-шанця, форма якого дозволяла захищати фосу та підошву вежі, застосовуючи перехресну оборону з ручної вогнепальної зброї. Вежі встановлювали перед основними фортечними стінами з метою розпорошити сили нападників. Кожна вежа Монталамбера мала кілька ярусів. Нижній був оточений сухим ровом, а верхні забезпечені позиціями для кругової оборони із застосуванням артилерії. Конструкція даху складалася з парапету для ведення вогню з ручної зброї та вежечки для спостереження. Інженери використовували вежі Монталамбера і як окремі оборонні споруди, і як форти в лінії укріплень. Максиміліанські артилерійські вежі Ідея пристосувати башти та вежі під розташування позицій для гармат виникла внаслідок розвитку артилерії ще в ХV ст. Круглі в плані споруди з кількома рівнями для ведення гарматного вогню, ззовні захищені валом, пропонував один із найвідоміших представників епохи Відродження Альбрехт Дюрер. І ось через більш ніж 300 років ці ідеї отримали суттєвий розвиток. Спершу австрійський ерцгерцог Максиміліан використав ідеї Монталамбера, модифікувавши їх для створення системи укріплень із артилерійських веж навколо міста Лінц (Австрія). Будівництво тривало в 1830-х роках. Рис. 3. Максиміліанська вежа у м. Лінц (Австрія). Джерело Місто було оточене низкою окремих веж для кругового артилерійського обстрілу. Ці вежі були простішими й дешевшими за вежі Монталамбера. Вони теж були оточені оскарпованими ровами та земляними валами. Вище валу виступали тільки верхні частини веж. Вежі мали внутрішні двори з криницями та склади боєприпасів і провіанту в нижніх ярусах. Дахові тераси та верхні яруси використовували для розміщення гармат. Цей тип артилерійських веж, круглих або багатокутних, у плані відомих як Максиміліанські вежі, використовували в австрійській школі фортифікації для кругової оборони та в інших об'єктах. Позиції для артилерії були розташовані на кількох ярусах і на дахових терасах, які могли бути обладнані земляними насипами. У мирний час вежі могли покривати дахами. Такі принципи максимально добре висвітлені й реалізовані на прикладі Львівської цитаделі. Основні споруди Львівської цитаделі Упродовж 1852−1854 років у Львові на території теперішнього узгір'я Цитаделі було споруджене уфортифіковане ядро фортеці, а чотири артилерійські вежі винесені на межі узгір'я в різних напрямках. У цей час в Європі на зміну концепції укріплених міст прийшла концепція укріплення територій держави шляхом спорудження стратегічних опорних пунктів − цитаделей. Рис. 4. Львівська Цитадель. Фрагмент карти 1853 р. «Оточення Львівської Цитаделі і район заборони будівництва (Umgebung der Lemberger Citadelle und BauVerboths-Rayon)». Центральна частина цитаделі була виконана у формі замкненого, шестикутного в плані оборонного периметру, характерного для фортів полігональної системи. Дві сторони периметра утворювали споруди головного корпусу казарм (V-подібний у плані, триповерховий, з підземним ярусом), дві фланкуючі башти, квадратні в плані, розміщені біля торців корпусу із заходу та сходу. Казарми і башти − триповерхові, з підземним ярусом, сполучені оборонними стінами, які завершуються парапетом із мерлонами. Через кілька років до центру увігнутої сторони казарм була прибудована підковоподібна в плані башта (мабуть, як надбудова над типовим капоніром). Усі згадані споруди збереглися і функціонують як громадські. До нашого часу також дійшли залишки фос навколо цих будівель, тому сьогодні ввійти у них можна тільки по містках. У минулому мости були звідними. Інші чотири сторони периметра були оточені муром з бійницями (так званий мур Карнота), який не зберігся. Інженер наполеонівської Франції Лазар Карнот вводить у тогочасні фортифікації стіну з бійницями для захисту пересування оборонців у межах укріплень та для забезпечення обстрілу з ручної вогнепальної зброї території біля самої фортеці. Карнот вважав, що фортеці легко здаються ворожим військам через те, що захисники не обирають активну оборону, саме тому й запроваджував різні вирішення, які полегшували здійснення вилазок. Унікальними об'єктами на території Львівської цитаделі є чотири окремі споруди − Максиміліанські (артилерійські) вежі. Дві більші розміщені на північ від казарм, а дві менші − на південь. З історичних планів відомо, що в минулому комунікаційні під'їзди та ходи між вежами і ядром цитаделі були влаштовані під захистом насипних земляних укріплень (валів). Рис. 5. Машикуль та мерлони верхньої бойової тераси північно-східної Максиміліанської вежі Львівської цитаделі Кожна вежа має два яруси з бійницями, підвал та оборонну терасу на даху. Великі вежі мають ще внутрішні подвір'я. Ці об'єкти були оточені оскарпованими сухими фосами, а перед входами були звідні дерев'яні мости. По периметру вежі були захищені земляними валами, тому на рівні першого поверху вони були приховані від обстрілу і мали невеликі вікна та бійниці лише для ручної вогнепальної зброї. Перший ярус у спорудах аналогічного типу використовували для зберігання провіанту, боєприпасів та розташування залоги. Другий ярус був забезпечений бійницями для гармат у такий спосіб, що на кожній стороні багатокутного периметра було по одній гарматній бійниці та по дві бійниці для ручної вогнепальної зброї. Застосування Максиміліанських веж дозволяло сконцентрувати в одному місці набагато більшу кількість артилерії під прикриттям, ніж у попередній бастіонній системі. У сімнадцятисторонньому периметрі великих веж лише на рівні другого ярусу могли бути розміщені 16 гармат, а в малих дев'ятигранних вежах − 8 гармат. Окрім того, дахи веж були забезпечені парапетами з мерлонами для ручної вогнепальної зброї, машикулями для підошвового бою і терасами, на яких теж могла розташовуватися артилерія. Збережені європейські аналоги Ще одним із небагатьох збережених в Європі фортифікаційних об'єктів у формі Максиміліанської вежі є форт вежевего типу фортеці Краків. Це єдина повністю реалізована фортеця австрійської школи на території Польщі. Фортеця складалася з системи фортів та допоміжних укріплень, де у першій лінії серед низки об'єктів були також дві артилерійські вежі Максиміліана. Тільки одна з них збереглася до нашого часу − форт Святого Бенедикта. Рис. 6. Форт св. Бенедикта у Кракові. Джерело Рис. 7. Форт св. Бенедикта у Кракові у процесі реставрації. Джерело: Dziennik Polski Будівля форту, зведена у формі правильного шістнадцятикутника, має два поверхи, другий із яких пристосований для оборони артилерією. Ця артилерійська вежа у Кракові є найближчим аналогом великих веж Львівської цитаделі. Збудована австрійською владою в той самий період (1853−1856 рр.), будучи майже ідентичною за архітектурним рішенням та габаритами, вона все-таки відрізняється деякими дуже суттєвими деталями. Стрімке збільшення ефективної дальності стрільби на ураження потребувало постійного вдосконалення форм уфортифікування. І в ХІХ ст. як ніколи зросла швидкість змін у формах периметрів фортець. Форт Святого Бенедикта, як і львівські аналоги, втратив оборонну актуальність ще на початку ХХ ст., був пристосований під казарми і використовувався до 1984 р. Тривалий час питання пошуку інвестицій для включення цього унікального об'єкта в культурне середовище міста постійно порушувалося польською громадськістю, завдяки чому розпочалася і триває масштабна реставрація будівлі форту Святого Бенедикта з метою її адаптації під культурно-освітні функції. Рис. 8. Максиміліанська вежа у місті Лінц (Австрія). Джерело Рис. 9. Максиміліанська вежа у муніципалітеті Венеції (Італія). Джерело Інші форти вежевого типу за концепцією Максиміліана збереглися в містах Лінц (Австрія) і Верона (Італія). Більшість уцілілих споруд використовують як громадські або житлові, а також для проведення культурних подій. Руїни, інтегровані в міське середовище як місця рекреації, мають культурне призначення. Європейський досвід показує, що життя пам'яток оборонної архітектури триває лише за умови наявності актуального функціонального призначення, завдяки чому мілітарний об'єкт підтримується в належному стані. На жаль, лише дві з чотирьох Максиміліанських веж Львівської цитаделі забезпечені належними функціями. І хоча укріплення Львівської цитаделі давно втратили оборонне значення, вони залишаються прекрасним свідченням високого рівня інженерії та архітектури. Публікація присвячена світлій пам'яті Ольги Анатоліївни Пламеницької
-
Что под восточной апсидой? Согласно исследованиям Евгении Пламеницкой ныне существующий объём церкви возвели в несколько этапов. Первым построили четверик с апсидой (на месте которого ранее существовала ещё более ранняя постройка), и выглядело это как-то так: На следующем этапе к четверику пристроили три новые апсиды, и так получился храм с планировкой в виде греческого креста. На этом же этапе в центре нефа возвели столб, всё это перекрыли сводами и т.д. Но давайте оставим в стороне всё то, что было возведено над землёй, чтобы присмотреться к тому, что было под землёй. Выше уже писал про две крипты (отметил их цифрами 1.1 и 1.2), которые обустроили под северной и южной апсидами, для чего пришлось довольно грубо сделать проломы в фундаментах ранней постройки. Было ли что-то интересное под западной апсидой мы не знаем (на планах ничего нет, сведений о раскопках этой части храма у меня также нет). А вот что касается западной апсиды, то мы видим на плане стену (обозначил цифрой 2), которая под землёй отделяла подземный объём апсиды от подземного объёма нефа. Источник: план-схема О. Пламеницкой из статьи Церква-донжон в Сутківцях (2008) Тут, во-первых, непонятно, зачем это было сделано? Была ли это попытка обустройства ещё одной крипты? Или эта стена играла роль некой конструктивной детали, обеспечивавшей стабильность стен в этой части церкви? В любом случае, стена-перегородка отделила западную апсиду от остальной части храма. Во-вторых, не могу сейчас найти источник, но, если не ошибаюсь, по сообщению О. Пламеницкой подземное пространство под западной апсиды возможно полноценно не успели исследовать. О. Пламеницкая предполагала, что именно там изначально могла находиться могила Ивана Сутковецкого, первоначально накрытая той надгробной плитой, которая ныне вмурована в стену восточной апсиды. Также О. Пламеницкая мне сообщила, что "Он [священник] на момент нашего посещения (акт тех состояния апреля 2015) успел залить бетоном пол в апсиде, остальное не успел". Таким образом, что бы там не находилось под восточной апсидой, священник по результатам самовольного ремонта блокировал к доступ к подземному уровню апсиды: с трёх сторон слой огорожен фундаментами U-образной апсиды, с четвёртой стороны (в интерьере) апсида от центральной части отделена стеной, а после выполненных работ ещё и сверху доступ был блокирован слоем бетона. Источник Так что теперь в случае возникновения желания продолжить исследования слоя под восточной апсидой прежде всего придётся демонтировать бетонный слой, и, надеюсь, что это рано или поздно произойдёт - если не ради раскопок, то чтобы просто убрать из памятника это недоразумение.
-
І ще одна стаття від Ігоря та Ольги Оконченко. Вперше опубліковано ось тут 4 лютого 2025 Історія спорудження комплексу укріплень львівської Цитаделі Умови та обставини, що сприяли будівництву комплексу укріплень львівської Цитаделі. Іл. 1. Фото: travels Ukraine Комплекс укріплень Львова середини ХIХ – першої чверті ХХ ст., центром якого були збережені до нашого часу укріплення Цитаделі, поставав у декілька етапів. Він складався з ядра, яким була територія Цитаделі, та автономних польових укріплень. Розуміння історії спорудження комплексу укріплень львівської Цитаделі розкриває цінність збережених мілітарних об’єктів та їхню роль у розвитку Львова. У зв’язку з цією проблематикою варто згадати дослідників В. Вуйцика, Й. Гронського, С. Кобєльського, Е. Малашовича, Б. Мельника, М. Юрчакевича, Я. Богдановського та багатьох інших, які зробили значний внесок у вивчення історії укріплень Цитаделі. Як було згадано в попередніх публікаціях, станом на середину ХIХ ст., згідно з передовими тенденціями воєнного мистецтва та покращенням вогневих характеристик вогнепальної артилерії, оборонна концепція міст, оточених стінами й бастіонами, була неактуальною. На зміну їй прийшла концепція укріплення території держави шляхом спорудження твердинь (стратегічних опорних пунктів), тому в 1848 р. (згідно з дослідженнями В. Вуйцика) австрійським урядом була створена спеціальна комісія для вибору місця під будівництво майбутніх укріплень Цитаделі на теренах Львова. Очолив комісію В.Ф. фон Гаммерштайн (рис.1, 2). До її складу ввійшли окружний «директор фортифікацій» інженер-підполковник артилерії Шварцлейтер та підполковник артилерії фон Ельбенштайн. Австрійський уряд 24 жовтня.1848 р. для забезпечення стабільності на новозахоплених територіях після поділу Польщі (та для запобігання можливій військовій агресії з російського боку, на що вказує криптонім «R» на деяких документах) видав указ №L 6096, в якому мовилося: “…знайти й організувати відповідні споруди під артилерію та воєнні запаси, які малими силами могли б стримати народ”. Б. Мельник, досліджуючи це питання, акцентує, що хоча в тексті указу сказано, що основне призначення Цитаделі – це виконання, по суті, поліційних функцій, її справжнім призначенням було створення стратегічного плацдарму (військової бази) на випадок військових дій, маневрової війни. Проблеми вибору території для будівництва комплексу укріплень львівської Цитаделі Під час роботи комісія докладно вивчила всі наявні об’єкти військового призначення. Спочатку було запропоновано збудувати комплекс укріплень Цитаделі, використавши казарми в “Червоному кляшторі” (колишній Театинській колегії). Але цей об’єкт, розташований під горою Високий Замок, можна було захопити без особливих зусиль (контролюючи територію вогнем з Високого Замку), тому від цього варіанта довелося відмовитися. Використання під майбутні укріплення гренадерських казарм (колишнього палацу Яблоновських), Великих і Малих казарм біля Жовківського гостинця та казарм Фердинанда теж було рішуче відхилене, оскільки вони не відповідали ряду вимог комісії Гаммерштайна. І оскільки ідея з використанням наявних казарм була відкинута, виникла слушна пропозиція спорудити нові укріплення на малозабудованих височинах, з яких можна було б контролювати артилерійським вогнем міську територію. В цьому аспекті розглядалися лише дві ділянки: площа Святого Юра та гора Шембека (Вроновських). Перевагу віддали горі Шембека з низки причин, а саме: це узгір’я було зручним стратегічним пунктом; артилерія, розміщена на ньому, контролювала великий відсоток міської території; підхід до плато з трьох боків був доволі стрімким, що могло значно ускладнити доступ до майбутніх укріплень Цитаделі; поблизу розкинувся Стрийський шлях, що значно полегшувало переміщення і маневр військ; з півдня перешкодою для можливих нападників був Пелчинський став, який за потреби мав постачати воду для гарнізону. Варто звернути увагу на той факт, що в 1848 р. гора Шембека (Вроновських) була малозаселена, поруч розміщена будівля військового навчального закладу, що загалом значно скорочувало витрати на придбання території. Залишалося викупити декілька приватних ділянок із будинками, налагодити комунікації з вершиною узгір’я та з’єднати його зі Стрийським гостинцем. Згідно з дослідженнями С. Кобєльського, виселення обивателів, які мешкали на терені, визначеному комісією під спорудження майбутніх укріплень, було розпочате весною 1849 р. Висновки комісії Гаммерштайна щодо артилерійського забезпечення комплексу укріплень На думку комісії Гаммерштайна, кількість гарнізону повинна була сягати 400–500 чоловік піхоти. Згідно з дослідженнями В. Вуйцика запропонована кількість артилерії включала 24 гармати; згідно з дослідженнями П. Гранкіна і Ю. Дубика – дві батареї гармат і гаубиць (загалом 24 одиниці) та дві батареї ракет системи Конгріва; згідно з дослідженнями С. Кобєльського – 24 гармати, одну батарею гаубиць і одну батарею ракет Конгріва. Фактично, як видно з матеріалів російських розвідданих, станом на 1891р. озброєння комплексу Цитаделі передбачало лише три польові гармати і 20 000 гвинтівок. Іл. 2. Генерал Вільгельм Фрідріх Гаммерштайн-Екворд, літографія 1850 р. Джерело: wikipedia.org Іл. 3. Офіцер і гусар (у зеленій формі) 1-го Вестфальського гусарського полку, очолюваного генералом В. фон Гаммерштайном. Джерело: wikipedia.org Відомості про артилерійську спроможність можливих супротивників З метою комплексного висвітлення всіх аспектів, пов’язаних із мілітарним функціонуванням та ґенезою львівських укріплень середини XIX – першої четверті XX ст., подамо перелік типів фортечної артилерії, яка була на озброєнні австро-угорської армії та облогової російської артилерії у досліджуваний період. У середині XIX ст. одне відділення облогових парків російської армії мало на озброєнні: 18-фунтових гармат – 6 штук, 24-фунтових гармат – 6 штук, однопудових однорогів (гаубиць) – 12 штук, мортир: півпудових – 8 штук, двопудових – 4 штуки, п’ятипудових – 2 штуки. У 1850 – 1860 рр. із нарізної артилерії в російській армії використовували чотирифунтові бронзові та восьмифунтові мідні дульнозарядні гармати "французької системи" довжиною 19,2 та 19,3 калібру і 152-міліметрові мортири. В 1863 р. російська артилерія за всіма калібрами перейшла на прогресивнішу прусську систему. Окрім того, в російській армії були на озброєнні ракети системи Конгріва. Згідно з авторськими дослідженнями австрійська артилерія в окресленому періоді мала на озброєнні шести- і 12-фунтові гармати, гаубиці калібру 5,5 та 6,5 дюйма. Батарея складалася з шести гармат і двох гаубиць. У 1850 – 1860 рр. із нарізної артилерії в австрійській армії використовували чотирифунтові та восьмифунтові бронзові дульнозарядні гармати Ленка довжиною 15 калібрів і гармати прусської системи для великих калібрів. У австрійській армії були прийняті на озброєння ракети Конгріва. Завдяки аналізу цього матеріалу доходимо висновку, що для озброєння Цитаделі була запропонована така кількість фортечної артилерії, яка була спроможна на ефективну відсіч стандартному відділенню російської облогової артилерії (станом на 1848 р. росіяни мали вісім відділень у двох облогових парках). Іл. 4. Комплекс укріплень львівської Цитаделі на карті 1855 р. Фрагмент Реалізація проєкту Пропозиції комісії для вибору місця під будівництво Цитаделі були розглянуті й затверджені у Відні. На роботи зі спорудження об’єктів Цитаделі виділили чималу суму – 150 000 флоринів. З цього приводу доречно згадати слова Ц. Кюі: "…вартість фортеці – це страхова виплата, яка сплачується наперед заради безпеки держави". Хто був автором проєкту комплексу укріплень Цитаделі, невідомо. Згідно з дослідженнями В. Вуйцика в архівних джерелах, датованих 1852 р., через викуп територій під будівництво оборонного комплексу Цитаделі згадані прізвища двох архітекторів – службовців Будівельної Директорії Намісництва Х. Реззінга та Й. Вандрушки, які, займаючись оцінкою експропрійованих будинків, визначали місця розташування майбутніх споруд Цитаделі. Можливо, вони й були авторами проєкту укріплень львівської Цитаделі, хоча прямих згадок про це немає. Згідно з проєктом упродовж 1852 – 1854 рр. на території узгір’я Цитаделі були споруджені такі об’єкти: головний корпус казарм (V-подібний у плані); дві фланкуючі його квадратні в плані башти; цегляна стіна з бійницями для ручної вогнепальної зброї (аналогічна збереглася донині в комплексі укріплень Варшавської цитаделі); чотири вежі Максиміліана (пізня інтерпретація артилерійських веж системи Монталамберга). Ці об’єкти були оточені оскарпованими фосами, через які пролягали звідні дерев’яні мости. Комунікаційні під’їзди і ходи між вежами були влаштовані під захистом насипних земляних укріплень, у південній лінії яких була споруджена потужна мурована в'їзна брама. Між 1856 і 1870 роками з метою фланкування прясел корпусу казарм із північного сходу до центру ввігнутого боку згаданого корпусу прибудували башту (в плані наближену до півкруга). З метою маскування вогневих позицій оборонний периметр у 1870-х рр. засадили каштанами й акаціями. Певний час на території Цитаделі були військові стайні для коней. У 1888 р. біля казарм викопали криницю глибиною 47 м, а відтак ще одну глибиною понад 30 м. Для зберігання запасу води у вежах поставили цистерни. В східній частині узгір’я заклали город для офіцерської кухні. Іл. 5. Комплекс укріплень львівської Цитаделі на карті 1853 р. Фрагмент Окрім сказаного, варто зауважити, що австрійські інженери-фортифікатори звели львівську Цитадель як центр стратегічного опорного пункту, до складу якого, попри згадані укріплення Цитаделі, входили три шанці системи Ф. Шолля, розміщені на відстані не більш ніж 1,3 км від ядра Цитаделі та 1 км від її південних позицій, подвоювали дальність вогню Цитаделі та захищали її територію. (Про ці укріплення розповімо в одній із наступних публікацій.) Передбачалося, що під час можливих народних збурень чи інших негараздів на території укріплень Цитаделі могли переховуватись урядовці, військові та родини офіцерів. Станом на 1892 р. на території Цитаделі був штаб, три батальйони і кадри запасного батальйону піхотного полку №30. У великих максиміліанських вежах перебували резервісти, призвані на час навчальних зборів, а в малих зберігалися НЗ 30-го піхотного полку. Напередодні Першої світової війни Цитадель не мала в штаті артилеристів. Її використовували тільки як казарми. І лише в квітні 1914 р. до Львова прибув 9-й батальйон фортечної артилерії. У процесі стратегічних маневрів Першої світової війни австро-угорська армія без бою залишила Львів, який за короткий час був зайнятий російськими військами. Тому в 1914 і 1915 роках у Цитаделі перебував російський гарнізон. Після Першої світової війни, коли Львів опинився в складі Польщі, з 1918 по 1939 роки на Цитаделі був розташований 30-й полк польської піхоти. Фактично тоді мілітарна функція укріплень львівської Цитаделі й закінчилася. Ще перед Першою світовою війною міська адміністрація мала намір викупити територію Цитаделі, розібрати фортечні споруди, а на звільненій території площею 20,5 га влаштувати міський парк. Але цей задум не був реалізований. Натомість у 1931 р. на цій території спорудили бараки за проєктом інженера В. Лімбергера. Іл. 6. Комплекс укріплень львівської Цитаделі. Історичне проєктне креслення Ця публікація присвячена світлій пам’яті видатного архітектора Цимбалюка Семена Веніаміновича, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, автора проєкту реставрації, реконструкції та пристосування під готель «Цитадель Інн» східної вежі комплексу «Цитадель».
-
Нижче стаття Ігоря та Ольги Оконченко, яку вперше було опубліковано 4 лютого 2025 ось тут. Публікація присвячується світлій пам'яті Сергія Емільовича Фрухта і Павла Ерленовича Ґранкіна Соціально-політичні передумови та причини виникнення укріплень львівської Цитаделі Про революційні події «Весни народів» та чинники, які передували спорудженню австрійської укріпленої військової бази у Львові на території Калічої гори, гори Вроновських і Познанської гори, розповідають кандидатка архітектури, доцентка кафедри дизайну та основ архітектури НУ «Львівська політехніка» Ольга Оконченко і старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв Ігор Оконченко. Повстання у Львові «Весна народів». 1848 р. Джерело: wikipedia.org У 1772 році після першого поділу Польщі Львів у складі Східної Галичини потрапив під владу Австрійської імперії, яка не приховувала своїх намірів приєднати якнайбільше нових земель до володінь дому Габсбургів. Унаслідок третього поділу Польщі (1795 рік) Австрійська імперія приєднала до своїх територій Західну Галичину. Згідно із «Заключним актом» Віденського конгресу 1815 року територія Галичини залишилася в складі Австрійської імперії, яка в 1867-му трансформувалася в Австро-Угорщину, аж до розпаду імперії в 1918 році. Зображення Європи за липень 1772 р., сатирична британська гравюра на тему Першого поділу Речі Посполитої. Джерело Загарбницькі тенденції Австрії значно зросли й отримали реальне силове підґрунтя після проведеної австрійським імператором Францом Йосифом I докорінної реорганізації армії. Переорієнтація згідно з новими вимогами ведення війни призвела до зміни військового устрою австрійської армії, яка стала мобільнішою і краще озброєною. Крім того, внаслідок реформ сформувалася нова генерація талановитих і висококваліфікованих офіцерів. Запровадження Австрією нової організації військ спричинило переорієнтацію основоположних практично-теоретичних положень усіх військових дисциплін (і фортифікації зокрема) стосовно нагальних потреб та новітніх стратегічних і тактичних вимог. Завдяки цьому Австрійська імперія опинилася на провідних позиціях з військового потенціалу, а саме здатності до ефективної оборони, участі в збройних конфліктах та війнах, як також до реалізації національних інтересів у міжнародному контексті. Загалом увесь соціально-політичний устрій Європи з відповідними ідеологічними підосновами докорінно змінюється із запровадженням нової організації військ. Як наслідок у другій половині XVIII століття кардинально змінилися тактика і стратегія війни: основну увагу почали приділяти не заволодінню уфортифікованими містами супротивника, а цілковитому розгрому ворожих армій із подальшим захопленням та підкоренням ворожої території. Значні зміни відбулися й в озброєнні. «Польський сливовий пиріг», алегорія Першого поділу Польщі, сатирична гравюра, 1774 р. Джерело: wikipedia.org Розвиток артилерії та зміни в концепції уфортифікування територій у XIX столітті У 1805 році з’явився принципово новий вид облогової зброї ‒ ракети У. Конгріва, в 1844-му ‒ ракети У. Хейла. В 1846 році з появою перших нарізних гармат системи Каваллі в Європі почалася епоха нарізної артилерії. В стислі терміни були розроблені й запропоновані для використання гармати «французької системи», «вуличської системи», а також гармати систем Тамізьє, Варендорфа, Ланкастера, Ленка, Вітворта, Вреде, Вавассера, Блеклі, прусські гармати на основі системи Варендорфа, дульнозарядні та казнозарядні гармати Армстронга. В артилерії замість ядер почали використовувати конічні снаряди, що значно покращило пробивну здатність і прицільну дальність пострілу. Із появою мобільних армій, які використовували нарізну артилерію, міські фортифікаційні укріплення попередніх періодів перестали задовольняти вимоги безпеки в умовах ведення війни. Основні сили наступальних армій супротивника обходили міста-фортеці, залишаючи для їх блокади лише невеликі загони з потужною артилерією. На тлі цих загальноєвропейських тенденцій у XVIII столітті австрійський уряд, згідно з імперською ідеологією та з метою повного контролю над підвладними новоприєднаними територіями, здійснив планомірну роботу щодо роззброєння міст-фортець і розбирання міських укріплень. На зміну концепції укріплених міст-фортець прийшла концепція укріплення території держави шляхом спорудження твердинь (уфортифікованих військових баз). У 1850 році Центральна комісія з питань, пов’язаних із укріпленнями (Zetkalbefestigungskomission), під орудою генерала Генріха фон Ґесса окреслила територію на північ від Карпат як зону маневру й концептуально визначила місця для спорудження фортець (цитаделей) у Кракові, Перемишлі й Заліщиках. На відміну від них у Львові й Тарнові пропонували спорудити другорядні укріплення середньої потужності. Відповідно до висновків із пізніших російських розвідданих, базованих на аналізі концентрації наявних запасів у містах, станом на 1891 рік Львів займав наступне після Перемишля місце й передував Кракову в ієрархії фортець за потужностями. Схема розташування австрійських укріплень ХІХ ст. на теренах Галичини. Ілюстрація Я. Богдановського. Прусський генерал та військовий теоретик Карл фон Клаузевіц відзначав важливу концептуальну роль нових фортець у час маневрових воєн та пряму залежність цієї ролі від габаритів і міліарної спроможності: «…фортеці спроможні виконувати функції стратегічних опорних пунктів настільки, наскільки вони значні та наскільки вони спроможні сприяти реалізації здійснення наступальних дій на достатню віддаль…». Із плином часу концепція змінилася, і (згідно з дослідженнями Б.В. Мельника) львівську Цитадель теж розглядали як центр укріпленої військової бази площею майже 3 км кв. Соціально-політичні передумови розміщення уфортифікованих військових баз Невдовзі після «Заключного акта» Віденського конгресу з 20-х років XIX століття росіяни почали будувати й модернізовувати три лінії фортець. Це було зроблене з метою протидії військам колишніх союзників щодо поділу Польщі, а на описуваний період уже ймовірних супротивників, якими вважалися Австро-Угорщина та Пруссія. Перша лінія проходила через Варшаву, друга через Брест-Литовський, третя через Бобруйськ і Даугавпілс (Двінськ). Варто зазначити, що в 30-х – 90-х роках XIX століття ці лінії фортець були одними з найпотужніших у світі. Відповідно до оперативних розробок російського генштабу у випадку можливої війни з Австро-Угорщиною або Пруссією російська армія мала вести оборонні прикордонні бої, спираючись на укріплення згаданої першої лінії. Відтак після підходу основних сил із глибини Російської імперії потужним контрударом планувалося знищити війська супротивника й безперешкодно просуватися на Захід. Повстання «Весна народів»: барикада у Відні. Гравюра ХІХ ст. Джерело Австрійський уряд з метою забезпечення стабільності на захоплених територіях і для запобігання можливій військовій агресії з російського боку, на що вказує криптонім «R» на деяких документах (так в Австро-Угорщині маркували документи й матеріали, які стосувалися Російської імперії), видав Указ №L 6096 від 24.10.1848 р., яким вимагалося: «... знайти й організувати відповідні споруди під артилерію та воєнні запаси, що малими силами могли б стримати народ». У 1848-му була створена спеціальна комісія для вибору місця будівництва Цитаделі у Львові. Пожежа у Львівській ратуші, 1848 р. Літографія 1851 р. Під час «Весни народів» 2 жовтня 1848 року австрійський гарнізон за наказом командувача військ у Галичині генерала В. Гаммерштайна обстрілював охоплений збройним повстанням Львів із Жебрацької (Калічої) гори – місця майбутньої львівської Цитаделі. Внаслідок точкових артилерійських ударів із вдало вибраних позицій було вбито 55 і поранено 75 чоловік. Згоріли ратуша, технічна академія, театр, будівля університету, вогнем було пошкоджено декілька житлових будинків. Ці революційні події та, зокрема, Краківське повстання 1846 року, яке їм передувало, стали ще одним чинником спорудження оборонного комплексу львівської Цитаделі. «Весна народів». Політична ілюстрація «Карта Австрії». Літографія 1848 р. Джерело У зв'язку з польськими революційними подіями в Галичині російський цар Микола I вимагав від австрійської влади негайної розправи над підвладними Австро-Угорщині повсталими поляками, погрожуючи ввести у Галичину російські війська для наведення ладу. Тому австрійський канцлер К.Л.В. Меттерніх вважав, що головна небезпека для держави Габсбургів криється радше в сусідстві з росіянами, аніж у внутрішніх революційних подіях. Науковець Б.В. Мельник, досліджуючи це питання, акцентував, що хоча в Указі №L 6096 й мовиться, що основне призначення Цитаделі – поліційні функції, її справжнім призначенням було створення стратегічного плацдарму на випадок військових дій маневрової війни. Основні події, пов’язані з будівництвом укріплень комплексу львівської Цитаделі, плануємо висвітлити в наступній публікації.
-
Нижче стаття від Ігоря та Ольги Оконченко, яку вперше було опубліковано тут 25 липня 2024 Предісторія терену Львівської Цитаделі В історичній частині Львова, на панівній височині, з якої відкривається панорама середмістя, розташована територія, відома тепер як Цитадельна гора. Комплекс укріплень Цитаделі постав лише в середині ХІХ ст., а освоєння цього терену розпочалося набагато раніше. Як використовувалася ця територія до спорудження комплексу укріплень Цитаделі, розглянуто в цій статті. Авторське фото 2019 р. панорами Львова наближене до виду з гори Вроновських з акварелі А. Ланге. Вид Львова з Цитадельної гори двісті років тому. Акварель А. Лянге «Вид Львова з гори Вроновських» (близько 1825 р.) Львівська Цитадель розміщена на узгір’ї, сформованому з кількох розташованих поруч пагорбів, які в минулому назвали горами: Жебрацькою (Калічою – (Mоns Calecorum-Mons Mendikorum), Шембека (Вроновських) і Пелчинською (Познанською). Цитадель на плані Львова з 1890 р. Фрагмент. Територія, на якій розташована Цитадель – підписана «Гора Вроновських», на північ від неї (справа зверху) позначено вулицю Калічу, зліва внизу – Пелчинський став. Назви гір пов'язані з тими, кому юридично належала більша частина терену, і з видом занять соціальних груп, у зоні інтересів яких перебувала ця територія. Південну частину цитадельного узгір'я, на якому пізніше звели укріплення комплексу Цитаделі, на початку ХVI ст. іменують Пелчинською горою (згідно з прізвищем власників – родини Пелків), а на початку ХVII ст. (від власника на прізвище Познань) – Познанською горою. Північну частину узгір'я на початку ХVII ст. іменують, згідно з прізвищем власника, горою Шембека, а з 1655року – горою Вроновських (Броновських). Згідно з дослідженнями Й. Гронського назва Каліча гора (Mоns Calecorum) зустрічається в актових книгах магістрату з 1504 року, а до того з 1472 року в документах Львівського магістрату побутувала назва Жебрацька гора (Mons Mendikorum). Пелчинський став і узгір'я до спорудження Цитаделі. Фрагмент плану 1783 р. Історія господарського освоєння земель на території майбутньої Цитаделі, згідно з дослідженнями Й. Гронського, на ранніх етапах досить заплутана і лише з 1565 року докладно висвітлена в книгах Львівського магістрату. Окремі відомості про права власності на земельні наділи вказують на обжитість цього терену ще у ХIV – XV ст., відкривають історію минулого узвишшя теперішньої Цитаделі і пояснюють виникнення топонімів. Наприклад, у 1390 році львівський міщанин Літинг володів на згаданій території одним ланом ґрунтів (60 моргів). Пізніше він продав цей наділ Конраду Юнглику, який на цьому ж терені вже мав 30 моргів ґрунтів. У 1401 році по смерті подружжя Юнгликів ці 90 моргів ґрунтів перейшли у власність тестя Конрада Юнглика – Йоана Черкеса, а по смерті Йоана Черкеса вищезгаданий земельний наділ перейшов у спадок його тещі, яка по смерті зятя на радощах вийшла заміж за Миколу Замарстина (Заммерштайна). Через деякий час, після подальших посвоячень у 1444 році, ґрунти перейшли у власність Миколи Фридерика, який через декілька років докупив у (міщанина?) Челдіца ще ґрунтів на згаданому терені. Земельний наділ Миколи Фридерика межував із ланом Миколи Темпеля, який дістався йому в 1500 році від тещі. На початку ХVII ст. великий процент площі ґрунтів на горі належав Павлові Кампіану, який на підставі архівних документів довів свої права на спадщину Михайла Темпеля. Пізніше Павло Кампіан докупив ще частину ґрунтів на вищезгаданому терені. Після смерті Павла Кампіана ґрунти перейшли у спадок Мартинові Кампіану, а майнові справи на ґрунти цього терену так заплуталися, що магістрат вже не міг точно встановити що, скільки і кому належить на цій території. Частина ґрунтів (станом на 1618 р.) належали Мареку Острогурському, який подарував Церкві два малі будинки для бідних на Калічій горі (іншими словами, М. Острогурський став фундатором шпиталю Святого Лазаря). За ґрунти точилися постійні суперечки серед владних структур, тому король Сигізмунд III спорядив незалежну комісію розмежувати земельну власність на Калічій горі. На планах Львова ХVІІІ ст. на узгір’ї вже добре відчитується міська планувальна структура з мережею вулиць і забудови. Пелчинський став і гора Вроновських до спорудження комплексу укріплень Цитаделі. Фрагмент плану 1829 р. Під номером 16 позначено шпиталь Святого Лазаря. Під номером 49 Заклад Оссолінських. Костел і шпиталь св. Лазаря на історичній світлині. Пелчинський став і узгір'я до появи Цитаделі. Фрагмент плану 1841 р. На схилі напис: «Турецькі шанці». Основним джерелом інформації стосовно використання досліджуваного терену в долітописний період є археологічні дослідження. Згідно з працями М. Стефановича ще задовго до проведення робіт зі спорудження комплексу укріплень Цитаделі на цьому терені люди знаходили кам'яні сокири, серпи, уламки посуду й урни. У першій половині XIX ст. історіограф Жегота Паулі під час проведення археологічних робіт на горі Шембека (Вроновських) виявив і описав у “Галицьких старожитностях” (1840 р.) залишки древнього культового комплексу: “…величезні кам’яні плити, укладені одна до одної не хаотично, а людськими руками… кілька років тому тут було знайдено плити, подібні до тих, що зустрічаються на давніх поганських вівтарях… було викопано рештки перепалених людських кісток, бронзові оздоби, урни. Це дозволяє казати, що це місце ще в дохристиянські часи було присвячене релігійним обрядам…”. Також у процесі проведення вищезгаданих робіт було віднайдено кам'яну фігуру, ідентифіковану Ж. Паулі як постать ідола. Цей ідол, згідно з описом Паулі, мав «округлу голову, майже без шиї, ліва рука спочивала на грудях, а права була опущена донизу. На обличчі на місці очей були досить глибокі западини, які могли бути призначені до вкладання в них якихось дорогоцінних каменів…». Постать, ідентифікована Жеготою Паулі як постать ідола, віднайдена на теренах гори Вроновських. Зображення з видання «Галицькі старожитності» (1840 року). Згідно з дослідженнями Василя Карповича (Богдана Януша), проведеними в 1918 році, кераміка з Цитаделі була аналогічна давній кераміці, знайденій раніше на Високому Замку. Аналізуючи зображення фігури ідола та порівнюючи його з караїмськими надмогильними пам'ятниками з Галича, Василь Карпович висловив припущення про караїмське походження фігури ідола та датування його періодом княжої доби, або періодом доби Відродження. До нашого часу дійшло лиш ескізне зображення цього «ідола». Дивлячись на це зображення, важко погодитися з версією Василя Карповича про караїмське походження фігури, виходячи бодай із того, що караїмські поховальні пам'ятники мають форму стел із написами та не містять зображень людських постатей. Тому питання ідентифікації цієї фігури залишається відкритим. Якщо аналізувати терени з мілітарного погляду, то важливо врахувати, що узгір’я розміщене на ключових підступах до міста з південно-східного та південно-західного напрямків. Північна частина узгір’я була досконалим плацдармом як для контролю над середмістям, так і для контролю шляхів Львів – Комарно, Львів – Стрий. Із розвитком артилерії та покращенням її вогневих характеристик північна частина узгір’я (у випадку її захоплення ворогом) могла становити значну небезпеку для міста. Тож не дивно, що на узгір'ї зводили оборонні укріплення і проводили фортифікаційні роботи. У 1626 році на східному схилі Калічої гори постав мурований костел Святого Марка (закритий і розібраний у 1785 р.). У 1635 – 1640 роках на західній частині території з назвою «Жебрацька (Каліча) гора» під керівництвом А. Прихильного та Я. Боні спорудили мурований шпиталь і костел Святого Лазаря. Цей сакральний комплекс мав важливе оборонне значення як укріплений форпост із південного заходу від середмістя. У вересні 1635 року фортифікатором Фридериком Ґеткантом був опрацьований проєкт новітньої лінії бастіонних укріплень Львова і його околиць. За даними В. Томкевича оборонна лінія Гетканта пролягала “... поза гору Познанську і Шемберга, поза шпиталь Св. Лазаря...”. Накладаючи прорис вказаного проєкту на сучасну підоснову, переконуємося, що одна з південно-західних куртин проєктованої лінії Ф. Ґетканта пролягала територією, на якій згодом постала Цитадель. Залишки потужних валів у цьому місці відчитуються на історичних картах і частково збереглися донині. На проєкті Ф. Ґетканта лінія укріплень охоплювала середмістя і велику кількість територій передмість з усіма прилеглими узгір'ями. Немає достатньої кількості підтверджень повної реалізації проєкту. Очевидно, що периметр проєктованих укріплень був занадто великим, щоби місто могло його утримувати, тому наступні проєкти охоплювали меншу територію. Фрагмент плану Львова з проектом фортифікацій, 1635 р. Автор: Фридерик Ґеткант. План розміщено північчю вверх. В нижній частині плану можемо спостерігати систему ставів на місці пізнішого Пелчинського ставу і позначені гори Шембека і Познанська. Фрагмент плану Львова з проектом фортифікацій, 1635 р. авторства Фридерика Ґетканта з позначеними горами Шембека і Познанською та системою ставів на місці пізнішого Пелчинського ставу. В 1648 році під час першої облоги Львова військами Богдана Хмельницького на горі Шембека козаки почали спорудження артилерійських позицій для обстрілу середмістя. В 1655 році під час наступної облоги Львова військами Б. Хмельницького для вигідного розміщення артилерії на панівній височині артилерійські позиції для обстрілу середмістя Львова були влаштовані на Калічій горі. Є інформація, подана Ф. Паппе, про те, що один із міських гармашів влучним пострілом із середмістя примусив замовчати козацькі гармати, розміщені на Калічій горі. Вважаємо цю згадку недостовірною, адже відома наявна на той час міська артилерія, розміщена на окреслених позиціях, не була технічно спроможною до ураження козацьких артилерійських позицій, розміщених на панівній височині, якою була (і є) Каліча гора. У 1661 році біля підніжжя Калічої гори (теперішня вул. Коперника) був споруджений костел і монастир кармеліток, будівлі якого наприкінці ХІХ ст. придбала фундація Оссолінських. У 1672 році під час облоги Львова військами султана Мухамеда IV під орудою Капудана-паші турки на горі Шембека (Вроновських) спорудили комплекс потужних земляних укріплень (шанців). Якими першопочатково за формою були ті шанці та чи використовували терени цитадельного узгір’я для оборони міста в цей період, невідомо. План фортифікацій Львова під час турецької облоги 1695 р. Автор інженер-фортифікатор Сір Деро (Десро). Існує схематичне зображення облогових шанців пізнішого періоду, виконане інженером-фортифікатором Сіром Деро (Десро), які позначені на узгір’ях поряд із середмістям на плані укріплень Львова під час турецької облоги 1695 р. Проте перше детальне креслення укріплень на горі Шембека (Вроновських) розміщене на датованій 1835 роком карті Львова з околицями, віднайденій Миколою Бевзом у Віденському військовому архіві. Прорис укріплень, підписаний "Турецькі шанці", був виконаний на окремому фрагменті і прикріплений до карти. Фрагмент карти Львова 1835 р. та авторський прорис бастіонового оборонного комплексу, розташованого на горі Шембека (Вроновських) згідно карти Львова 1835 року. На карті 1835 року на місці пізніших відомих нам укріплень Цитаделі зображене укріплення із замкнутим бастіонним оборонним периметром у формі, наближеній до неправильного багатокутника з равеліном, розміщеним по центру південно-східного прясла. Укріплення підписані як "Турецькі шанці". Невідомо, навіщо було виконане це креслення укріплень. Можемо лише припускати, що австрійський уряд намагався використати наявні залишки для фортифікування території. Виконавши прорис укріплень "Турецькі шанці" з карти 1835 року, бачимо, що вони були споруджені на засадах, близьких до староголландської школи фортифікаційної архітектури. Це були земляні вали, можливо, оскарповані. Підтвердження того, що ці або схожі укріплення були реалізовані на території узгір'я і їхні залишки існували більш ніж через 100 років після спорудження, простежуємо на історичних картах Львова XIX ст., а саме: – на картах Львова 1829-го та 1836 року в рельєфі відчитуються північний наріжник та південно-західна частина бастіонних укріплень тотожних із укріпленнями "Турецькі шанці"; – на карті Львова 1844 року чітко зображений північний наріжник із надшанцем, у рельєфі відчитуються південно-західна куртина, південно-західний наріжник та залишки північно-східного наріжника укріплень. Фрагмент плану Львова з 1844 р., на якому прослідковуються залишки «Турецьких шанців» Найцікавішою інформацією щодо атрибутації залишків укріплень, які існували на цитадельному узгір’ї до спорудження Цитаделі в середині ХІХ ст., є зображення території біля Пелчинського ставу, виконані майже одночасно Антонієм Ланге та Каролем Ауером. На живописному зображенні «Краєвид Пелчинського ставу у Львові», виконаному А. Ланге у 1824 році, детально зображені стильові та конструктивні особливості оборонного валу й комунікаційного в’їзду у лінію валів. На зображенні показаний потужний земляний вал із наскрізним проїздом. Вид на Пелчинський став у Львові. 1824 р. Художник Антоній Ланге. Вид на схил з проїздом в валу зі сторони сучасної вул. Вітовського. Фрагмент картини 1824 р. Антонія Ланге. На літографії «Військовий плавальний басейн», виконаній Каролем Ауером у середині ХІХ ст., теж ідентифікуємо зображення комунікаційного в’їзду у лінію валів. Найцікавіше те, що цей вал був включений пізніше в структуру укріплень Цитаделі і в ньому теж є проїзд, який з фрагментом валу зберігся донині. Зображений проїзд був розміщений з боку північно-західного напрямку від збереженого. Літографія «Військовий плавальний басейн» виконана Каролем Ауером у середині ХІХ ст. Споруди наявної Цитаделі досить точно вписуються в контур оборонного периметра колишніх укріплень, які існували на території цитадельного узгір'я, а Максиміліанські вежі Цитаделі розміщені на місці наріжників цих укріплень. Це підтверджує, що при розплануванні території під оборонні споруди архітекторами-іженерами комплексу укріплень Цитаделі Х. Реззінгом та Й. Вандрушкою був максимально використаний і врахований мілітарний досвід (усі недоліки, можливості й переваги) укріплень, розміщених на цьому терені у ХVII ст. або й раніше. Публікація присвячується світлій пам’яті Костя Васильовича Присяжного та Мирона Васильовича Демківа.
-

Брага: шанцы, редуты, батареи и др. укрепления напротив Хотинской крепости
Filin ответил в теме пользователя Filin в Хмельницкая область
План 1807 г. Выше этот источник уже несколько раз упоминался + там была размещена чёрно-белая копия этого плана, но теперь вот переходим на новый уровень благодаря тому, что Заповедник "Хотинская крепость" поделился на своей страничке в Facebook цветной копией плана в хорошем качестве. Напомню, что этот проект так и не был реализован. -
План 1928 г. Romek Pawluk навёл на план их коллекции Института искусства Польской академии наук, выполненный на основе обмеров Ежи Сенницкого.
-
Несмотря на то, что внимание к церкви поклонники старины начали проявлять ещё в конце 19 в, долгое время на участке памятника не проводили раскопок. Их, насколько мне известно, не было ни в 1-й пол. 20 в., ни в конце 1940-х (когда был создан первый проект реставрации авторства Петра Юрченко). С 1970-х гг. храм детально исследовала Евгения Пламеницкая (планировавшая осуществить реставрацию церкви по своему проекту), однако, насколько могу судить по имеющейся у меня на данный момент информации, в центре внимания долгое время была только архитектура, а вот до этапа раскопок добрались аж к концу 1980-х, т.е. более чем через век после появления на свет первых публикаций, сделавших этот храм широко известным. Долгое время об этих раскопках мне были известны лишь небольшие обрывки сведений, полученных от Ольги Пламеницкой. Я знал, что какие-то раскопки были, что они выявили какую-то сложную историю с фундаментами, что культурный слой внутри церкви был местами повреждён, местами представлен засыпкой и т.п. общие тезисы. На момент когда я мог уточнить эти детали у О. Пламеницкой и даже может получить сам отчёт о раскопках, эта тема меня не сильно интересовала, так что единственный сохранившийся у меня источник на эту тему представлен вот этой вот титульной страницей отчёта. Судя по нумерации, там есть на что посмотреть, т.к. отчёт состоял как минимум из 2 томов, каждый из которых включал несколько книг. Ещё совсем недавно я думал, что кроме этого отчёте больше нет других источников информации об этих раскопках. И тут совершенно случайно узнал о том, что оказывается в 1996 г. в сборнике конференции "Меджибіж: 850 років історії" была опубликована небольшая статья (или даже скорее заметка/краткие тезисы) Александра Склярского под названием "Архітектурно-археологічні дослідження Покровської церкви-фортеці в с. Сутківці (нові дані)". И там как раз очень кратко были описаны те самые малоизвестные раскопки 1989-1990 гг. Примечательно, что в ходе составления списка источников, касающихся памятников Сутковцов, я не натыкался на упоминания этой публикации в статьях других авторов, и узнал о её существовании когда фильтровал все публикации с упоминанием Сутковцов в одной из библиотек Хмельницкого. Сборника в Сети не нашлось, но, к счастью, Олег Погорелец и Игорь Западенко из того самого Меджибожа, где проводилась та самая конференция, любезно предоставили нужную статью, благодаря чему я могу ей с вами поделиться. Может показаться, что там нет ничего особенно примечательного, однако с учётом белых пятен в других публикациях, и с учётом практически нулевых сведений об этих раскопках, данный материалы выглядит весьма интересным и полезным для анализа. Кроме того, информационный заряд этой публикации можно многократно усилить, если сопоставлять приведённые здесь данные с теми сведениями, которые были в разные годы опубликованы Е. и О. Пламеницкими. Некоторые технические моменты раскопок: В раскопках участвовал автор статьи Александр Склярский из Киева, специалист института "Укрпроектреставрація". К сожалению, мне о нём ничего не известно (кроме того, что он занимался раскопками нескольких памятников в Хмельницкой обл.). И всё же эта краткая информация даёт нам понимание, что раскопками занималась не Е. Пламеницкая (хотя на других объектах она сама иногда проводить подобные работы и руководила ими), а специалист-археолог. Обратите внимание на приписку "Нові дані" в названии статьи. Там действительно есть новые данные, причём не только по состоянию на 1996 г., но также и по состоянию на наши дни, поскольку и после 1996 г. об упомянутых в статье деталях более никто не писал, и даже эта публикация не вызвала большого интереса, что, честно говоря, не удивительно, если учесть её небольшой объём, общее/краткое описание деталей (полноценно раскрывающих своё значение только при сопоставлении их с данными публикаций Е. и О. Пламеницких), а также отсутствие иллюстраций. В публикации указан период 1989-1990 гг. Из этого можно сделать предположение, что было два сезона раскопок. На фото обложки отчёта стоит дата "1989", так что, возможно, был и ещё один отчёт за 1990 г. К счастью, А. Склярский опубликовал свои мысли в 1996 г., т.е. по итогу проведения всех этапов работ (если сезонов действительно было несколько). Е. Пламеницкая скончалась в 1994 г., а статья о раскопках была опубликована в 1996 г., т.е. двумя годами позднее. Ещё спустя 4 года после этого О. Пламеницкая опубликовала своё первое краткое описание истории архитектуры храма, где в общих чертах были изложены взгляды Е. Пламеницкой. Т.е. статья о раскопках была опубликована как бы в промежутке между тем, как Е. Пламеницкая уже закончила свой жизненный путь (но ещё не была опубликована её версия развития архитектуры храма), а её дочь ещё не подхватила тему анализа этого памятника. Потому статья А. Склярского может быть относительно автономной, с описанием более-менее чистых взглядов этого автора, без явно выраженного влияния со стороны гипотез Пламеницких. Может по этой же причине статья о раскопках лишена привязки обнаруженных слоёв к определённым периодам/датам, тогда как Е. и О. Пламеницкие все эти слои и этапы преображения памятника снабжали привязками к определённым векам, а иногда даже небольшим отрезкам времени. Хотя раскопки были точечными, а заметка о них не пестрит упоминаниями широкого перечня находок, автор публикации все же считал, что в ходе работ была получена "широка архітектурно-археологічна інформація". Сложно сказать, замыкалась ли широта полученной информации только в пределах описанной в заметке находок, или же было найдено много чего другого, о чём в публикации сказано не было (но о чём, возможно, есть сведения в отчёте). Раскопки проводили при помощи шурфов, которых (судя по нумерации) было не менее 8. Часть из них была сделана внутри, а часть снаружи памятника. К сожалению, автор не предоставил сведений ни о размере шурфов, ни о глубине, ни об их расположении, ни о содержимом каждого из этих шурфов. Пожар: Внутри церкви заложили несколько шурфов. Автор употребляет выражение "внутрішній об'єм споруди", и тут нет чёткого понимания, имеется ли ввиду интерьер храма в целом (т.е. неф + апсиды), или же "внутрішній об'єм" это четырёхугольник нефа? В паре из шурфов "первинна стратиграфія практично не збереглась", но остальные на глубине 40-60 см. от уровня пола (т.е. совсем неглубоко) выявили следы большого пожара, который некогда произошёл на этом участке. Это крайне интересно, поскольку было получено свидетельство того, что памятник пережил пожар, но при этом у нас нет сведений о том, при каких обстоятельствах это произошло. Автор сообщает, что следы пожара "охоплюють всю споруду по периметру", и тут не до конца понятно, подразумевается ли под периметром внутренний контур стен, или же внешний? А отсюда непонятно, были ли следы пожара выявлены только внутри, или также и снаружи? На изображении ниже условно показал красным линию слоя со следами пожара. Тут, конечно, стоит учитывать, что у нас нет сведений о площади, на которой этот слой распространился (к примеру, возможно он концентрировался в центральной части храма и не выходил за границы апсид), так что всё это схематично, просто чтобы в условиях отсутствия в публикации иллюстраций дать хоть какое-то представление о том, как/на какой глубине этот след пожара расположен относительно существующего памятника: Напомню, что в описании церкви, которое О. Пламеницкая опубликовала в 2000 г. [5], была такая строка (здесь и далее выделение жирным моё): "Протягом XVI-XVII ст. храм кілька разів горів. Пожежі супровождувались ремонтами і переробками ...". Долгое время я думал, что это условность, ведь известно, что через село неоднократно проходили татары и турки, и эти земли действительно не раз опустошались (иногда тотально), так что предположение о том, что храм мог неоднократно гореть выглядело вполне логично. Однако после знакомства с заметкой о раскопках ситуация стала выглядеть иначе, поскольку теперь мы знаем, что Е. и О. Пламеницкие не строили предположения - они знали про обнаруженные следы пожара. Впрочем, синхронизация между данными публикаций двух авторов всё же не идеальная, т.к. в статье о раскопках автор чётко сообщил, что были выявлены следы "великої одноразової пожежі", тогда как О. Пламеницкая не менее чётко указала, что "храм кілька разів горів". История с пожаром (или несколькими пожарами) особенно интересна потому, что это действительно мог быть тот тип события, которое было способно привести к изменению облика храма (его реконструкции или же постройке нового сооружения). На показанном ниже плане, составленном О. Пламеницкой [6], разными цветами выделены два этапа формирования объёмов церкви (Е. и О. Пламеницкие, на основе проведённых исследований, пришли к выводу, что три апсиды не были первоначальными, а были пристроены к более раннему четверику). Вначале я подумал, что теоретически гореть могла не поздняя версия церкви (та, которая в виде греческого креста/квадрифолия), а более ранняя версия каменного храма (показана жирным чёрным контуром). Однако сведения, которые были приведены в заметке о раскопках, если правильно понял, сообщают, что тут могла гореть ещё более малоизвестная ранняя постройка, предшествовавшая всему тому, что мы видим на этом плане. Источник: O. Пламеницька. Церква-донжон в Сутківцях ... // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – № 15. – Київ, 2008. Почти наверняка ответы на возникшие вопросы уже были получены во время раскопок, ведь по расположению следов пожара, а также по их соседству с существующими каменными стенами, вероятно, не сложно понять, происходил ли пожар в существующей в наши дни постройке (и в какой именно её части?) или она была полностью с нуля (и в два этапа?) построена позднее на пожарище. Так что если доберёмся до полноценной версии отчёта о раскопках, то этот источник, хочется верить, поможет решить проблему белых пятен. Загадочные фундаменты: Далее читаем об обнаружении ещё одной интересной находки: "Велику цікавіть викликає факт зміни характеру кладки підмурків ... Складається враження про різночасовість їх спорудження" + "Глибочини залягання "пожежного шару" всередині об'єму храму і глибина, на якій відмічається зміна порядку підмуркової кладки, практично співпадають ... ". И на основе всего этого археолог приходит к следующему выводу: "... маємо всі підстави для того, щоби зробити висновок про ймовірну вторинність всього, що нині існує, об'єму Покровської церкви" + "Можливо під час одного з таких набігів [татар] споруда, що існувала від початку на цьому місці, була дощенту зруйнована і спалена. Згодом на цьому місці зводиться новая будівля на давніх вцілілих підмурках". А затем автор добавляет новые детали: "Це з'ясовує наявність функціонально нетотожних виступів в основі підпружних арок внутрішнього об'єму. За повторного використання підмурку, вони не були задіяні, можливо через неповне співпадіння проектів храму. Найвірогідніше, на той час було вирішено відмовитись від будь-яких конструктивних елементів, що правили їм за основу". На показанном ниже фото (слева неф, справа - южная апсида), сделанном в ходе реставрационных работ 2006 г. я стрелками показал хорошо различимый шов между двумя слоями фундаментов (сейчас всё это находится в подземном ярусе, под полом церкви, но рассмотреть там всё это крайне сложно, т.к. стены покрыты штукатуркой), а человек слева стоит приблизительно на уровне современного пола храма. Рискну предположить, что эта и есть та описанная автором часть, где видна "зміна характеру кладки підмурків". Т.е. слой кладки ниже шва - это фундаменты сгоревшей постройки (слой со следами пожара был обнаружен на 10-15 см. выше шва), а всё что выше - это уже фундаменты храма, построенного позже на пожарище. Интересно, что в заметке о раскопках чётко сказано, что смена характера кладки зафиксирована "у більшості зовнішніх (надвірних) шурфів" - т.е. расположенное внизу фото показывает ситуацию изнутри храма, а археолог сообщил, что смена кладки ими была зафиксирована снаружи. Также обратите внимание, что человек в центральной части кадра, вероятно, стоит на упомянутых археологом "функціонально нетотожних виступів в основі підпружних арок внутрішнього об'єму", так вот в статье О. Пламеницкой 2008 г. [6] находим следующее толкование этих фрагментов - здесь часть старого фундамента была снесена, чтобы обеспечить вход в крипты, обустроенные в двух апсидах. Источник: фото предоставлено О. Пламеницкой. В силу краткости публикации не всегда чётко понятно, о чём именно пишет А. Склярский, где именно и что именно было обнаружено + нет ни одной иллюстрации (плана/схемы или фото) по теме, и всё же, кажется, основная мысль выглядит так - всё то, что видим в наши дни это вовсе не первая постройка на этом месте. Ранее на этом месте находилась друга постройка (давайте предположим, что она также была церковью). У этой ранней постройки, о которой нам мало что известно, был каменный (с апсидой?) фундамент, что, впрочем, не означает, что и вся покоящаяся на этих фундаментах постройка также была каменной, ведь известны примеры строительства деревянных церквей на каменных фундаментах. И вот в какой-то неизвестный момент при каких-то невыясненных обстоятельствах эта постройка сгорела. После этого новый (сохранившихся до наших дней храм, который показан жирным чёрным контуром на приведённом выше плане?) начали строить на том же месте, и для этого использовали фундаменты той более ранней сгоревшей церкви (?). Однако старые фундаменты и нижние секции стен новой церкви не везде совпадает + есть шов между двумя разновременными слоями кладки, и это сформировало основу для выводов, что новую церковь построили на фундаментах старой постройки. А поскольку слой со следами пожара более-мене совпадает со слоем шва, то было высказано предположение, что пожар, вызвавший смерть одного здания, и появление на его месте другого (более основательного и массивного) - это взаимосвязанные события. Из заметки о раскопках история перестроек выглядит не так уж и сложно, поскольку там фактически упомянуты всего две версии постройки - старая (сгоревшая, от которой сохранился только фундамент) и новая (ныне существующая). Однако если вы занырнёте в публикации, где описаны взгляды Е. и О. Пламеницких на формирование архитектуры церкви, то там увидите намного более сложную картину. Всё это в деталях описаны в отдельной теме. Если кратко, то по версии Е. и О. Пламеницких даже та условно "новая" церковь, видимая в наши дни (и, согласно заметке о раскопках, вроде как построенная после пожара), не была построена за один раз, а получила свою планировку и основной облик в два этапа. Но не менее интересно, что Е. Пламеницкая утверждала, что и до этого было несколько этапов 13-14 вв., и она также бегло упоминала некие загадочные фундаменты, вероятно, именно те, о которых речь шла в заметке о раскопках. При этом состыковать сведения от А. Склярского и от Е. Пламеницкой не так уж и просто, хотя они были в одной команде и работали в Сутковцах вместе в рамках одного и того же проекта. Собственно и Е. Пламеницкая и А. Склярский сошлись во мнении, что найденные под землёй линии фундамента относились к какой-то более ранней постройке. Как эту интересную находку описал археолог мы уже знаем, а вот если попытается найти о ней информацию в публикациях Е. и О. Пламеницких, то обнаружим там крайне мало сведений и размышлений на эту тему. Впервые об этом предельно кратко сообщила О. Пламеницкая в публикации 2000 г. [5]: Давайте в общих чертах рассмотрим то, как по итогам своих исследований и раскопок видела историю формирования памятника Е. Пламеницкая: I этап. Возведена четырёхугольная постройка размером 9,6х10,5 м., со стенами толщиной 1,2 м. Подозреваю, что это описана та самая постройка, фундаменты которой были обнаружены под церковью. И если всё так, то у нас есть её размеры. Много позже, в статье 2017 г. [7], О. Пламеницкая снова очень кратко упомянула эти фундаменты: "Чрезвычайно важным является также установление факта разновременности некоторых частей симметричного четырехконхового объема церкви. Исследованиями в шурфах было зафиксировано наличие фундаментов под квадратным центральным объемом храма". Вот только сейчас, после прочтения заметки о раскопках, мне стало чуть более понятно, о каких именно фундаментах шла речь, и почему их считали доказательством существования более ранней постройки. Как видим, Е. Пламеницкая считала, что это мог быть донжон 13 в. (О. Пламеницкая придерживалась того же мнения, правда, датировала появление объекта не 13-м, а 14-м в.), но при этом, на мой взгляд, убедительных доводов в пользу такой функции и датировки объекта так и не было предоставлено. II этап. К этому этапу отнесено только утолщение стен. Ранее мне казалось, что здесь речь идёт о том, что четырёхугольник старых стен снаружи дополнительно усилили новым слоем кладки - именно так я воспринял слово "потовщення". Однако сейчас у меня создаётся ощущение, что под "потовщенням" могло подразумеваться строительство новой постройки с более толстыми стенами на месте (и с использованием фундаментов) более ранней постройки с более тонкими стенами. Также автор предполагала, что на этом этапе у постройки уже могла быть апсида. Этот период в справке имеет странную датировку - начало 13 в., поскольку I этап был широко датирован 13 в., а II этап почему-то получил более узкую датировку, смещённую в самое начало того же века. Но даже если представить что речь не о начале, а о каком-то другом периоде 13 в., то всё равно непонятно, на какой основе сформировалось это мнение? III этап. Это самый загадочный из этапов, поскольку у нас о нём меньше всего данных. Согласно исследования автора на этом этапе у объекта появилось несколько пристроек неизвестных размеров и планировок. Их следы, насколько я понимаю, были обнаружены с севера и запада, тогда как для южной стороны уверенности в существовании пристройки не было (судя по фразе "та, очевидно, південного боків"), так что может её там и не было? Этот этап был датирован рубежом 13-14 вв. IV этап. К этому этапу Е. Пламеницкая отнесла строительство того самого квадрифолия, который можно увидеть в наши дни. Получился он путём добавления 3-х новых апсид к той постройке, которая появилась на II этапе. Это радикальное преображение постройки было датировано рубежом 14-15 вв. Как видим, в версии Е. Пламеницкой формирование архитектуры выглядит как более сложный и более продолжительный процесс, чем тот, о котором мы читаем в заметке о раскопках. Также обращу ваше внимание на фразу из статьи О. Пламеницкой 2008 г. [6]: "Підземний простір квадрифолію первісно використовувався, про що свідчить його пізніша одноразова засипка, в якій було вимурувано склепінчасті крипти". Опять же всё очень кратко, и непонятно, идёт ли речь только о подземном пространстве под двумя апсидами (северной и южной), где были обустроены крипты, или то же самое произошло и в центральной части храма, но так или иначе из этого сообщения ситуация выглядит так, что в процессе строительства квадрифолия и обустройства его крипт вынимали грунт, а затем всё снова засыпали. Тут вспомним сообщение А. Склярского о том, что на участке двух шурфов "первинна стратиграфія практично не збереглась", и, возможно, это было связано с упомянутой выемкой грунта, а затем повторной засыпкой. Датировки: Обращает на себя внимание значительный контраст того, как вопрос с датировками освещён у А. Склярского, и у Пламеницких. Мы видим, что по итогам раскопок, и спустя несколько лет после их окончания, археолог всё же не решился датировать момент пожара, а вместо этого напрямую написал, что раскопанные материалы "не дають можливості хоч би якось хронологічно обгрунтувати час його [пожежного шару] винекнення". Т.е. по мнению археолога даже для датировки"хоча би якось" уровня данных было недостаточно. И хотя он избегал сколь-нибудь конкретных датировок, всё же в тексте проскочила одна деталь - он предположил, что ранняя/первая постройка могла сгореть во время одного из набегов татар из Крыма, а набеги эти стали нарастать лишь ближе к концу 15 в. (Крымское Ханство было основано в 1441 г.), и, по логике, если эта постройка сгорела не ранее середины 15 в., то все более поздние этапы тем более не могут быть датированы более ранними периодами. О. Пламеницкая, касаясь той же темы, сообщила [5], что храм горел в 16-17 вв., но если речь идёт о следах пожара, выявленного раскопками, то тогда такая датировка противоречит многим другим гипотезам Е. и О. Пламеницких, ведь по версии А. Склярского нынешняя версия церкви была построена уже после пожара, а если пожар был не ранее 15 в., то как тогда квадрифолий можно датировать рубежом 14-15 вв. (именно тогда, по версии Е. Пламеницкой, сформировалась крестовая планировка памятника). Кроме того, к 1996 г., когда была опубликована статья о раскопках, уже существовало три публикации [1, 2, 3] Е. и О. Пламеницких, где самые ранние строительные этапы памятника были сдвинуты в сторону 14, а затем и 13 в. В статье А. Склярского нет намёка на такой почтенный возраст памятника. Слои, которых нет В финале автор очень кратко сообщает: "Археологічний культурний шар, що хронологічно передує часові спорудження покровської церкви-фортеці, не був виявлений. Імовірно пагорбець, на якому розміщена споруда, у більш віддаленому часі не заселявся". Здесь опять же всё немного расплывчато, без каких-либо привязкам к хронологии, но всё же и из этих крох можно извлечь ценные сведения. Получается, если правильно понял, что ныне существующей церкви предшествовала более ранняя погибшая от огня церковь (?), а вот глубже слоя с фундаментами этой первой постройки уже не удалось обнаружить ничего, чтобы свидетельствовало о заселении этого места в более ранние периоды. Как минимум, это говорит о том, что культурный слой на участке церкви не такой уж богатый следами разных эпох, что выглядит странно в рамках версии Е. и О. Пламеницких о последовательном существовании здесь разных построек с 13-14 вв. Тут напомню, что на соседнем мысу стоит замок, так вот там как раз обратная картина, поскольку замковый мыс был заселён более 1500 лет назад, о чём нам сообщает охранная табличка, размещённая на замковой башне, где сказано, что тут: "Пам'ятка археології місцевого значення: Поселення черняхівської культури". Т.е. с большей вероятностью можно предположить, что веками центр жизни в Сутковцах был в районе замкового мыса, тогда как застройка на соседнем участке появилась позже, и тогда же была построена первая церковь, которая сгорела, и уже ей на смену пришёл каменный храм. Источник: дипломный проект О. Пламеницкой, 1980 г. Индивидуальные находки А. Склярский с одной стороны сообщил, что в ходе раскопок была получена "широка архітектурно-археологічна інформація", но при этом он привёл сведения только о недатированном слое со следами пожара, недатированных фундаментах сгоревшей ранней постройки, а также о том, что более ранних слоёв не было выявлено. И ни слова о каких-либо находках, что, к слову, вообще не свойственно археологам, которые зачастую предпочитают уделять больше внимания не архитектурной археологии (а именно это мы видим в заметке), а описанию индивидуальных предметов, керамики, оружия и т.п. И потому непонятно - то ли ничего из этого не было найдено в шурфах, то ли находки были, но автор не ставил перед собой цели их описать. Вероятно тогда нашли всё же больше, чем было описано в заметке, ведь, к примеру, именно тогда были обнаружены те самые загадочные скелеты, к датировке которых никто не проявил интереса за пару десятилетий, и потому они, по воле местного священника и общины, не так давно были закопаны возле церкви. Тут было бы интересно узнать, были ли какие-то из скелетов обнаружены в шурфах или же все они были найдены при расчистке крипт? По логике, крипты появились уже у поздней версии каменной церкви, тогда как ранее хоронить могли просто в земле под полом храма. И одно дело если это скелеты каких-то не сильно заметных персоналий того времени, и другое дело если это останки представителей рода Сутковецких, для которых церковь в Сутковцах была родовой усыпальницей. Надеюсь, что когда-нибудь эти кости снова извлекут на поверхность, проведут их экспертизу и датировку, и мы получим в своё распоряжение ещё один интересный пласт информации. Выявленные в ходе раскопок кости много лет вот так в мешках хранились в одной из расчищенных крипт, порождая множество версий, мол это кости местных жителей, погибших во время её защиты от татар/турок, или кости казаков, или жертв советского режима, голодомора, и т.д. Источник Подведём итоги В нашем распоряжении есть три выраженных вектора для размышлений: что нашли, чем это было (тип/функция объекта) и каким периодом это датировать. Касательно того, что нашли данные А. Склярского и Е. Пламеницкой не сильно разнятся. Оба упоминают пожар, оба упоминают находки фундамента более ранней постройки. Данные Е. Пламеницкой выглядят более детальными, однако эту детализацию всё же можно синхронизировать с данными археолога, который в силу краткости заметки или по другим причинам мог не упомянуть о промежуточных строительных этапах. Касательно функции той постройки, которой принадлежали самые ранние фундаменты, археолог чётко не высказал своего мнения, предпочитая использовать по отношению к ней нейтральное слово "споруда". Он не пишет, что это был чисто-оборонный объект, но и чётко не указывает на то, что это мог быть храм. Е. и О. Пламеницкие наоборот чётко описали свои взгляды, согласно которым все версии этой памятника (этапы с I по IV) могли быть чисто-обронными постройками, и якобы лишь ок. 1476 г. этот боевой объект был превращён в церковь. В ситуации с датировками, кажется, мнения А. Склярского и Е. Пламеницкой разошлись. Во всяком случае археолог ни прямо, ни намёками не указывает на то, что там были обнаружены признаки строительных этапов 13-14 вв. и даже наоборот - единственная косвенная привязка к датировкам у него связана с периодом не ранее 15 в. Е. и О. Пламеницкие, частично опираясь на материалы этих же раскопок, предпочли сдвинуть все ключевые этапы строительства к более ранним периодам. А поскольку единства мнений по этим важным вопросам нет, то предложу к рассмотрению следующую версию: I этап. Была возведена постройка размером 9,6х10,5 м. со стенами толщиной 1,2 м. Была ли у неё апсида или нет мы не знаем, хотя эта деталь очень важна, поскольку она может дать ответ на вопрос функции постройки. Если апсида была (и с учётом того, что на этом месте позднее находились разные версии сакральных построек), то кажется логичным предположение, что эта ранняя постройка могла быть первой церковью, то ли каменной, то ли деревянной на каменных фундаментах. Что касается датировки, то мне пока на глаза не попались никакие весомые доводы в пользу версии о датировку этой постройки 14-м и тем более 13 в. Более логичной кажется мысль, что эта постройка могла быть связана с деятельностью представителей рода Ярмолинецких-Сутковецких, а это в свою очередь не позволяет датировать её появление периодом более ранним, чем 1-ая пол. 15 в. Возможно первую церковь могли построить уже ближе к сер. 15 в. (ок. 1453 г., если точнее), когда Сутковцы ненадолго получили городской статус. II этап. Мы не знаем, когда эта церковь (?) сгорела, но если она была построена, например, к середине 15 в., то пожар, очевидно, произошёл позже, например, во 2-й пол. 15 в. Новая версия более массивной постройки появилась ещё через какой-то промежуток времени после пожара. Исходя из планировки (на этот раз четырёхугольник был дополнен апсидой) это больше всего похоже на храм/церковь. Возможно это была постройка 2-й пол. 15 в., но я бы не удивился, если бы оказалось, что это церковь уже 16 в. III этап. Здесь у нас есть очень краткая информация от Е. Пламеницкой о появлении то ли 2-х, то ли 3-х пристроек. С этими пристройками объект всё ещё выглядит как небольшой и довольно типичный по своей планировке храм с притвором, нефом, апсидой и боковым помещением (условно назову его ризницей). Необычным его делает только гипотеза Е. и О. Пламеницкой, что всё это уже существовало в 14 в., и что это не был храм, а некая чисто-оборонная постройка (на мой взгляд крайне сомнительна и версия о такой функции постройки, и такая её датировка). В действительности с большей вероятностью всё это могло формироваться между 2-й пол. 15 и 16 вв. IV этап. Строительство того самого известного квадрифолия, который дожил до наших дней. Поскольку все доводы Е. и О. Пламеницкой в пользу версии, что изначально это была чисто-оборонная постройка, а не храм, можно опровергнуть (что уже частично было сделано в других темах, например, в теме о стиле церкви), то мы остаёмся с версией, что это всё же была церковь, а не, к примеру, донжон или какой-то замочек. Поскольку я склоняюсь к версии, что этот квадрифолий не мог быть построен ранее 2-й пол. 16 в. (а даже более вероятным кажется, что его возвели не ранее рубежа 16-17 вв. или даже в 1-й трети 17 в.), то и все более ранние строительные этапы я бы скорей датировал в пределах сер. 15 - 16 вв., а не 13-14 вв. Версия Е. Пламеницкой о строительстве квадрифолия не позднее рубежа 14-15 вв. выглядит ещё более сомнительно на фоне того, что лишь в 1407 г. эти земли перешли во владения первого представителя будущего рода Ярмолинецких-Сутковецких, которые и развивали застройку Ярмолинцев и Сутковцов. Т.е. версия Е. Пламеницкой выглядит маловероятной ещё и потому, что она все основные этапы формирования памятника поместила в периоды, для которых у нас нет никаких источников, которые могли бы подтвердить, что и ранее здесь на столь высоком уровне век или даже пару веков (13-14 вв.) активно активно велась строительная деятельность (ведь по их же версии замочек также уже существовал в 14 в.). К сожалению, отсутствие более-менее чётких привязок к хронологии мешает понять, насколько А. Склярский поддерживал гипотезы Е. Пламеницкой или наоборот - не разделял их. И потому приведённые им данные о результатах раскопок при желании можно толковать по-разному. Так, например, если верить гипотезам Е. и О. Пламеницких, то загадочная сгоревшая постройка могла быть построена не позднее 13-14 вв. Если же верить в версию (которой и я придерживаюсь), что самый ранний строительный этап может относиться к периоду не ранее 15 в., то рисуется совсем иная картина, ведь в этом случае сгоревшая постройка может ранней церковью Сутковецких. И сгореть она могла и вовсе в 16 в., например, и именно это событие могло стимулировать строительство новой каменной церкви. К сожалению, скромное описание раскопок не противоречит ни одной из этих версий, и явно не высказывается в пользу какой-то из них. При этом если удастся датировать слой пожара, и в итоге окажется, что уже после этого события была построена ныне существующая церковь, то одно это может доказать или опровергнуть одну из версий датировок существующего памятника архитектуры. Если, например, окажется, что пожар не может быть датирован ранее рубежа 15-16 вв., то это опровергнет версию о постройке квадрифолия ок. 1476 г., а если окажется, что пожар случился не ранее 2-й пол. 15 в., то это опровергнет версию Е. Пламеницкой о строительстве квадрифолия на рубеже 14-15 вв. Потому датировка слоя с пожаром - это один из ключей, которые в дальнейшем, надеюсь, поможет скорректировать датировки этапов строительства памятника. P.S. Вряд ли стоит рассчитывать на обнаружение ещё какой-нибудь забытой публикации, описывающей эти раскопки. Но несмотря на это тема чуть позже вполне может пополниться множеством новых сведений, ведь где-то там хранится оригинал отчёта о раскопках (хочется верить, что помимо более детальных и менее двусмысленных описаний там будет также план/схема шурфов и раскопанных линий фундаментов, а также фото), и, надеюсь, что со временем до всего этого доберусь, чтобы и с вами поделиться найденными там сведениями. Источники: Евгения Пламеницкая, Ольга Пламеницкая. Сутковцы, замок и церковь // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР, Том 4. Киев, 1986. Ольга Пламеницкая. Замок в Сутковцах // Архитектурное наследство, №39. Москва, 1992. С. 148–155. Ольга Пламеницька. Початок мурованого оборонного будівництва на Поділлі // Архітектурна спадщина України, Випуск 1. Київ, 1994. С. 53-54. Олександр Склярський. Архітектурно-археологічні дослідження Покровської церкви-фортеці в с. Сутківці (нові дані) // Меджибіж: 850 років історії: матеріали науково-практичної конференції 17 серпня 1996 р. Меджибіж, 1996. С. 23-24. Ольга Пламеницька. Церква-замок Покрова Богородиці // Пам’ятки архітектури та містобудування України. Довідник Державного реєстру національного культурного надбання. Київ, 2000. С. 271-272 Ольга Пламеницька. Церква-донжон в Сутківцях (До питання типології середньовічного оборонного будівництва Поділля) // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці, № 15. Київ, 2008. С. 155-169. Ольга Пламеницкая. Оборонительный квадрифолий в Сутковцах на Подолии // Arta, Vol. XXVI, nr. 1. Chișinău, 2017. P. 14-22.
-
Нижче стаття Як формувались оборонні укріплення Львова у XIV-XVII століттях від Ігоря та Ольги Оконченко. Вперше її було опубліковано ось тут У цій публікації кандидатка архітектури, доцентка кафедри дизайну та основ архітектури Національного університету «Львівська політехніка» Ольга Оконченко та старший викладач кафедри дизайну і технологій Київського національного університету культури і мистецтв Ігор Оконченко, які понад 20 років займаються дослідженням оборонних споруд, розповідають про львівські фортифікаційні укріплення. Джерело Публікація присвячується світлій пам’яті Романа Липки та Володимира Вуйцика У минулому оборонні укріплення були невід’ємною частиною існування всіх міст і виконували роль своєрідної містобудівельної матриці. Історія розвитку міста тісно пов’язана з розвитком його фортифікацій. Навіть після того, як укріплення втратили мілітарне значення і були розібрані, вони нагадують про себе характерним плануванням вулиць та кварталів. Укріплення Львова постали не одночасно. Можна виділити три комплекси львівських укріплень, які функціонували послідовно. Про комплекс укріплень Львова княжого періоду (долокаційного) ХІІІ – середини ХIV ст. достовірної фахової інформації збереглося мало. Перші писемні згадки вказують на існування укріплень Львова і двох замків, але конкретно їхні планувальні та об'ємно-просторові характеристики невідомі. Основна частина збережених пам’яток оборонної архітектури в середмісті Львова походить із наступного періоду – середини ХІV – ХVІІ ст. Цей комплекс припинив функціонування, коли австрійський уряд згідно з імперською ідеологією провів планомірні роботи з роззброєння міст-фортець, зокрема розбирання львівських укріплень. У XVIII столітті історія будівництва фортифікацій Львова не завершилася, оскільки в середині XIX – на початку XX ст. був створений наступний глибокоешелонований оборонний комплекс міських укріплень з ядром на території Цитаделі. Після втрати оборонного значення збережені споруди цього комплексу набули нових функцій і залишаються важливою складовою історичного міського контексту. Локалізація фортифікацій середмістя Львова станом на ХVІІІ ст., виконана Я. Вітвіцьким у першій пол. ХХ ст. Аксонометричний краєвид Львова з боку Галицького передмістя станом на ХVІІ ст., накладений на сучасну топогеодезичну підоснову. Креслення І. Оконченка, 1999 р. Лінії укріплень комплексу оборонних споруд Львова ХІV–ХVІІ ст. Для того, щоб зрозуміти еволюцію комплексу львівських укріплень середини ХІV–ХVІІ ст., необхідно почергово розглянути типи ліній укріплень, якими було послідовно оточене середмістя, а пізніше й передмістя Львова. У середині XIV ст. у Львові відбувалося формування першої лінії міських оборонних укріплень, відомої як "Високий мур", згідно з принципами баштової оборонної системи. Перша лінія укріплень включала в себе високий мур завтовшки до 2 метрів з мерлонами (зубцями на фортечному мурі) і машикулями (навісна конструкція на кронштейнах, яка виступає за межі муру, з отворами для обстрілу підошви муру), регулярно розташовані вздовж усього периметру башти та дві брами – Татарську (пізніше Краківську) і Галицьку. Перед лінією укріплень був глибокий рів та вал (доданий пізніше). У цей період постали Високий замок (мурований) та Низький замок. У XV ст. почала функціонувати друга лінія оборонних укріплень, відома як "Низький мур". Ця нова система міських оборонних споруд базувалася на принципах бастейної оборонної системи і включала в себе мур із бастеями, фосу та вал. Низький мур пролягав паралельно до Високого муру і починався від Татарської брами (охоплюючи місто зі сходу), а закінчувався біля Галицької брами. Отже, у XV ст. комплекс міських оборонних споруд складався з двох функціонувальних оборонних ліній. До першої входили Високий мур і рів, до другої – Низький мур, фоса і вал. Станом на цей час у Високому мурі дослідники нарахували 18 башт, у Низькому мурі – 17 напівкруглих бастей. Від кінця XV до кінця XVI ст. тривав третій період еволюції оборонного комплексу у Львові. В цей час постала Третя лінія, яка мала замкнутий периметр і охоплювала місто повністю разом із наявними лініями укріплень. У складі цих робіт Краківська та Галицька брами були посилені барбаканами (фортифікаційними спорудами для захисту підступів до брам). Третя лінія була композитна, оскільки містила елементи як бастейної, так і бастіонної оборонних систем. Поєднання різних типів оборонних споруд у третій лінії було результатом неперервних модернізацій, спричинених зростанням вимог у сфері військового мистецтва та розвитком вогнепальної артилерії, свідченням чого є факт спорудження в третій лінії у 1554–1556 роках великої бастеї (відомої на даний момент під назвою «Порохова вежа»). В цей період комплекс міських оборонних споруд включав: першу лінію (Високий мур, рів); другу лінію (Низький мур, фосу) і третю лінію (вал, фланкований бастеями та бастіонами). Ліворуч: Комплекс укріплень Краківської брами. Фото з макета (пластичної панорами) міста Львова станом на 1740-ві рр. Фото 30-х рр. ХХ ст. Праворуч: Бастея "Порохова вежа" в контексті міських укріплень. Фото з макета (пластичної панорами) міста Львова станом на 1740-ві рр. Фото 30-х рр. ХХ ст. У XVII ст. почався четвертий етап розвитку оборонного комплексу міських укріплень Львова. В цей період відбулися важливі роботи з уфортифікування міста новими бастіонними лініями. Впродовж XVII ст. частково з'явилася бастіонна лінія, розроблена Фрідріхом Ґеткантом, а Галицьке передмістя отримало бастіонну лінію авторства Яна Беренса. Крім того, була проведена ретельна реконструкція наявних міських укріплень попередніх періодів. На північ від Порохової вежі, на місці нинішнього будинку пожежної охорони, було зведене потужне укріплення – Королівський белюард, а також розпочате будівництво Королівського арсеналу. А до південного прясла третьої оборонної лінії додане укріплення Бернардинського монастиря. Львів із заходу. Мідьорит А. Гогенберга за рис. А. Пассаротті, 1607–1608 рр. (фрагмент). Тоном виділені оборонні споруди Львів з південного заходу. Літографія за рис. Р. д'Отто, 1772 р. (фрагмент). Тоном виділені оборонні споруди Львів з північного заходу. Мідьорит Ф. Пернера, 1775–1778 рр. (фрагмент). Тоном виділені оборонні споруди Вплив вогнепальної артилерії на розвиток фортифікацій Львова На початку XVI ст. почалося масове використання вогнепальної артилерії в Європі, а в XVII ст. набула значного поширення зброя великого калібру, тому виникла потреба застосування нових способів уфортифікування. Оборонні споруди тепер необхідно було робити низькими, щоб настильному вогню було відкрито щонайменше поверхні оборонних споруд. Водночас необхідно було розмістити артилерію на терасах укріплень, максимально приховуючи свої позиції. Ці функції забезпечували вали та різні види низьких бастей і бастіонів, які успішно протистояли засобам ураження вогнепальної артилерії окресленого періоду. На противагу традиційним середньовічним фортечним стінам і баштам (що були відкритими з боку передполя, а тому вразливими до дій артилерії) свою життєвість показала концепція будівництва низьких, масивних бастіонних фронтів, форма яких базувалася на точних розрахунках і геометричній побудові, з урахуванням умов території, озброєння, тактики оборони і нападу. Відсутність нових оборонних систем негативно позначилася на перспективах розвитку Львова у XVII ст. Упродовж цього періоду середмістя, займаючи лише 1/4 загальної площі міста, вичерпало свій потенціал для подальшого розвитку. Наявні укріплення середмістя виявилися малоефективними для протидії актуальним небезпекам, окрім того, спричиняли низку проблем містобудівного характеру, таких як перенаселення території середмістя, надмірна щільність і висотність забудови та інші. Це, натомість, породжувало проблеми з водопостачанням, каналізацією та спричиняло складні санітарно-гігієнічні умови. Локалізація укріплень Львова ХІІІ– VІІІ ст. на сучасній топогеодезичній підоснові, виконана О. Оконченко та І. Оконченком. Феномен виникнення "паралельних" міст У цей період старі оборонні системи міст реконструювали і посилювали відповідно до актуальних вимог, тому в більшості випадків уже наявні населені пункти оточували ззовні новими лініями бастіонних укріплень. Як приклад можна назвати такі міста, як Берлін, Варшава, Мілан та інші. Тоді спостерігався феномен виникнення "паралельного" нового міста. Суть цього явища полягала в тому, що поруч із наявним містом поза його середньовічними міськими укріпленнями формувалося самостійне дочірнє місто із автономними бастіонними фортифікаціями. Зазвичай це нове місто виникало на підставі окремого локаційного привілею. Серед найвідоміших прикладів таких "паралельних" міст можна назвати: у Кракові – Казимеж, у Дрездені – Нове місто (розташоване на правому березі Ельби, навпроти Старого міста), Нове місто у Варшаві та інші. Подібна ситуація виникла й у Львові, де мешканці Галицького передмістя на початку XVII ст. намагалися зведенням оборонних споруд утворити бастіонний пояс для нового міста. У ХVІІ ст. Львів постійно перебував у зоні бойових дій. У цей час середмістя завдяки старим середньовічним укріпленням витримало багато облог, а незахищені передміські території були віддані на поталу ворогам. Під час ворожих нападів (як, наприклад, у 1648 році) Краківське та Галицьке передмістя становили загрозу середміській захищеній території, і містяни були змушені власноруч руйнувати та спалювати передміські споруди, щоб створити вільні зони обстрілу перед міськими укріпленнями та максимум невигод для нападників. У 1607 році мешканці Галицького передмістя висловили прохання королю Сигізмунду ІІІ отримати привілей для створення нового міста на передміській території, яке планували назвати Володислав. Це, натомість, передбачало впровадження власної системи актуальних оборонних споруд. У відповідь на це король відправив до Львова свого інженера Авреліо Пассаротті із завданням розробити проєкт нової фортифікаційної лінії. Пассаротті представив проєкт, і мешканці передмістя навіть почали його втілювати. Проте ці плани так і не були завершені через протести львівського магістрату, якому належали передміські землі. У 1634 році мешканці Галицького передмістя знову спробували уфортифікувати свою територію. Вони звернулися до короля Владислава ІV із пропозицією створити нове місто навколо старого Львова, яке охоплювало б території Галицького та Краківського передмість і Підзамча, а також запропонували назвати нове місто на честь принца Яна Казимира – Казимирів. Після передбачуваної згоди короля і з метою реалізації цього задуму інженер Фридерік Ґеткант 1635 року розробив план нових укріплень для Львова та його околиць. Львів зі сходу (станом на XVII ст., фрагмент). Креслення І. Оконченка, 1999 р. Інженери-фортифікатори та їхні проєкти уфортифікування Львова На замовлення передмістян та за сприяння королівської адміністрації у ХVІІ ст. була розроблена низка проєктів актуальних укріплень. Деякі з уже згаданих проєктів залишилися нереалізованими, деякі припинили ще на етапі виконання, деякі втілили частково. Базуючись на відомостях, отриманих із праць Володимира Вуйцика, Владислава Томкевича та інших авторів, відомі 12 інженерів-фортифікаторів, які працювали над укріпленнями Львова у XVII ст. Проте лише вигляд трьох проєктів добре відомий дослідникам: проєкт Ґетканта (1635 р.), проєкт Беренса (не підписаний, імовірно 1678–1682 рр.) та проєкт Деро (1695 р.). Проєкт Фридерика Гетканта Проєкт Гетканта вважається найбільш раннім серед збережених креслень бастіонних укріплень Львова у XVII ст. На верхньому картуші міститься напис «Ситуаційний план Львова, виконаний Ґеткантом у 1635 році». Згідно з припущенням Ольґерда Чернера, представлене зображення є спрощеною копією оригіналу. План фортифікацій Львова, 1635 р., виконаний Ф. Ґеткантом. Загалом на плані бастіонна лінія замкнутого периметра, яка оточує місто, включає два форти: південно-східний, п'ятикутний у плані, та північно-західний, чотирикутний. Проєктована лінія охоплює середмістя, територію передмість та прилеглі території потужним поясом бастіонних укріплень. З огляду на розмах і масштаб запланованих фортифікаційних робіт можна припустити, що цей проєкт став концептуальним відтворенням незбереженого проєкту Авреліо Пассаротті. Хоча проєкт Ґетканта був реалізований лише частково через великі обсяги робіт, залишки декількох укріплень східного прясла, які за формою та стилістичними ознаками нагадують фрагменти бастіонної лінії, запроєктованої Ґеткантом у 1635 році, зображені на пізніших картах і планах Львова. За даними Владислава Томкевича, оборонна лінія Гетканта пролягала “... поза гору Познанську і Шемберга, поза шпиталь Св. Лазаря...”. Накладаючи прорис вказаного проєкту на сучасну підоснову, переконуємося, що одна з південно-західних куртин проєктованої лінії Ґетканта пролягала територією, на якій згодом з’явилася Цитадель, а залишки східного прясла відчитуються у рельєфі на вулиці Пекарській. Проєкт Яна Беренса Важливим графічним документом, на якому зафіксовані львівські укріплення, є проєкт новітніх фортифікаційних споруд, створений Яном Беренсом наприкінці XVII ст., на пів століття пізніше від проєкту Ґетканта. Ян Беренс, народжений у Пруссії, обіймав посаду генерального інженера королівської артилерії та в 1682 році став полковником. Крім того, він перебував на посаді коменданта, відповідаючи за порядок, безпеку і обороноздатність Львова. Ян Беренс – один із небагатьох інженерів-фортифікаторів, чий внесок у розвиток оборонних споруд Львова документально зафіксований. У період 1678–1682 років під керівництвом Яна Беренса було здійснене будівництво земляних бастіонних фортифікацій, спершу біля гори Високого замку, пізніше була розбудована потужна бастіонна лінія з боку Галицького передмістя. Відповідно до проєкту на узгір’ї східного боку міста був попередньо уфортифікований монастир кармелітів босих, від якого почали насипати вал «великий, широкий і високий», а поза монастир кармелітів взутих «вал на подобі щита, достатній для укриття війська». Попри те, що фортифікаційні роботи велися на досить незначному відтинку передміської території, створення згаданого вала потребувало значних витрат, тому він споруджений «великою працею і великим коштом» та названий «шеляговим». Під час будівництва вал обходився щороку в майже 30 тисяч, не враховуючи додаткових витрат. Окрім фінансових перевитрат, негатив мешканців викликав ще той факт, що в процесі спорудження таких укріплень для розширення розмірів вала був зруйнований ряд будинків у передмісті. Тому й не дивна неоднозначна реакція сучасників на це будівництво: «… є і довго буде те давнє, однак непотрібне і недосконале творіння на здивування і посміховисько для чужих, бо не тільки будь-якій обороні міста шкодить, але й противнику за найкращу оборону служить». Суб’єктивність цих тверджень пов’язана з багатьма чинниками, такими як необізнаність із реальними військовими потребами, можливостями та вимогами тогочасного військового будівництва, нерозумінням ролі новітніх фортифікацій, особистою економічною зацікавленістю тощо. На відміну від тенденції, коли кожна наступна лінія бастіонних укріплень охоплює щораз більше території та, відповідно, отримує більший периметр, територія, оточена поясом укріплень на проєкті Беренса, виявилася значно меншою за територію, оточену укріпленнями за проєктом Ґетканта, виконаного на пів століття раніше. План фортифікацій Львова, виконаний Я. Беренсом (1678–1682 рр.) На наш погляд, глобальний за своїм масштабом проєкт Ґетканта не був повністю реалізований через несумісність запланованих робіт із економічними можливостями в будівництві, озброєння та утримання цих фортифікацій. Проєкт Беренса завдяки меншому за периметром нарису виявив ефективне поєднання економічної спроможності та вимог щодо уфортифікування території міста. Проведені дослідження підтверджують реалізацію фортифікаційного проєкту Беренса при укріпленні міста з боку Галицького передмістя. Проєкт Деро Останнім із відомих збережених проєктів львівських фортифікацій ХVІІ ст. був план реорганізованого (реформованого) Львова, обложеного турецькими військами в 1695 році, виконаний інженером-фортифікатором Деро. Цей план містить важливу інформацію щодо швидкої адаптації фортифікацій XVII ст. до нагальних тогочасних військових вимог, а також можливі стратегії оборони під час облоги міста турецькими військами. План фортифікацій Львова, виконаний Деро, 1695 р. План досить схематичний, проте в цьому проєкті укріплення середмістя та східне прясло фортифікацій із незначними відмінностями аналогічне з проєктом Беренса. Це вказує на те, що в 1695 році (на час складання плану Деро) укріплення лінії авторства Беренса вже існували на терені. Що стосується решти бастіонних укріплень і редутів, зображених на плані Деро, не можна стверджувати однозначно, які з них реалізовані станом на 1695 рік, а які лише пропоновані в цей час для реалізації. Основні тенденції в уфортифікуванні Львова Львів, як і кожне місто, постійно дбав про свою обороноздатність, тому в XVII ст. були опрацьовані кілька проєктів створення новітніх укріплень міських та передміських територій. Ініціаторами спорудження нових оборонних ліній найчастіше виступали мешканці передмість, які постійно наражалися на небезпеку під час ворожих нападів. У XVII ст. над уфортифікуванням Львова працювали чимало архітекторів-інженерів, серед яких Бернардо Морандо, Авреліо Пассаротті, Теофіл Шемберг, Павло Римлянин, Миколай Руцький, Вільгельм Апельман, Павло Ґродзицький, Фридерик Ґеткант, Якуб Боні, Андреа дель Аква, Ян Беренс, С. Деро та інші. Їхні роботи можна розділити на дві основні групи. Перша включає проєкти модернізації та розширення наявних оборонних укріплень міста. До цієї категорії також належать проєкти укріплення монастирів, що були під мурами міста: бернардинського, отців кармелітів босих, єзуїтів, Святого Лазаря, Святого Юра, Святого Онуфрія та інші. Друга група включає проєкти створення нової оборонної лінії, охоплюючи територію передмість. Над цим працювали Ґеткант, Беренс і Деро. Дослідження хронології будівництва укріплень у XVII ст. та ідентифікація зазначених споруд вказують на те, що львівські укріплення цього періоду були зведені здебільшого відповідно до принципів староголландської школи фортифікаційної архітектури, яка була популярна в Європі у XVII ст. Львів з південного сходу (станом на XVII ст., фрагмент). Креслення І. Оконченка, 1999 р. На прикладі Львова можна простежити реалізацію типової схеми розвитку європейських міст. По-перше, з'являються середмістя в межах мурів. Згодом, у XVII ст., передмістя уфортифіковують, створюючи "підцентри", які поступово набувають тих самих функцій, що й середмістя. По суті, на передміських територіях виникають нові міста, які починають використовувати свої права на автономію. Наявність укріплень сприяла умовам для урбанізації передміських теренів. Довідково: Роман Липка, львівський архітектор, педагог. Володимир Вуйцик, вчений-архівіст, історик мистецтва, знавець і дослідник Львова, автор книжок «Зустріч зі Львовом» та «Львівський Державний історико-архітектурний заповідник».
-
- 10 ответов
-
- славянские городища
- городища
- (и ещё 8)
-
-

Кохановка (Коханівка): Кохангород (Коханград) и его замок
Filin ответил в теме пользователя Filin в Винницкая область
Пополнение темы от Ильи Литвинчука 1. Статья 2023 г. (в соавторстве с Олегом Рыбчинским) Фортифікаційні особливості дерев’яно-земляного замку і половини XVII століття у Кохангороді Брацлавського воєводства 2. Графическая реконструкция, созданная по итогам обследования местности: -

Белый Камень (Білий Камінь): локализация укреплений города и замка
Filin ответил в теме пользователя Filin в Львовская область
Здесь кадрастр 1845 г. (фрагмент которого был показан парой сообщений выше) в полном виде и в хорошем качестве. -
І. Готун, В. Івакін, Р. Осадчий, О. Казимір, М. Гунь. Обстеження замку Корецьких у Лісниках поблизу Києва // Археологічні дослідження в Україні 2023 р. С. 55-57.